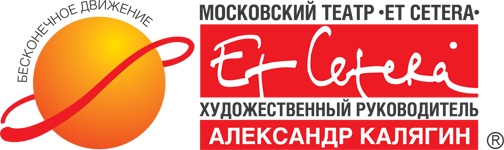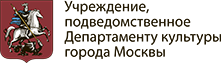17.11.2006
Journey Into Darkness
John Freedman ,
"The Moscow Times"
27.10.2006
Бегство от обмана
Елена Губайдуллина ,
"Театрал"
25.10.2006
По кайфу
Марина Зайонц ,
"Итоги"
19.10.2006
Театр начинается с морфия
Марина Райкина ,
"Московский комсомолец"
16.10.2006
Октябрь. Московские театральные премьеры
Елена Дьякова ,
"Новая газета"
13.10.2006
Про «Морфий» написали оперу
Майя Мамаладзе ,
Полит.ру
12.10.2006
Глюки Верди
Наталия Каминская ,
"Культура"
11.10.2006
Партитура экстаза и ломки
Ольга Фукс ,
"Вечерняя Москва"
09.10.2006
Морфий
Вера Павлова ,
"TimeOut"
09.10.2006
Не колись
Ольга Галахова ,
"Независимая газета"
06.10.2006
Лекарство от тоски
Алена Карась ,
"Российская газета"
05.10.2006
«Морфий» — премьера в театре “Et Cetera”
Дарья Ли ,
Радио "Маяк"
05.10.2006
Режиссерская доза
Роман Должанский ,
"Коммерсантъ"
08.06.2006
Сожженные письма
Алиса Никольская ,
"Взгляд"
06.04.2006
Загадка Ивана Павловича
Майя Мамаладзе ,
"Полит.ру"
31.03.2006
Behind Closed Doors / За закрытыми дверями
Джон Фридман ,
"The Moscow Times"
27.03.2006
Газета «Русский инвалидъ» за 18 июля…
Елена Ковальская ,
"Афиша"
23.03.2006
Есть ли жизнь после классики?
Наталия Каминская ,
"Культура"
20.03.2006
Конец историйки
Дина Годер ,
"Экперт"
17.03.2006
Сюжет предан анафеме
Григорий Заславский ,
"Независимая"
16.03.2006
Хороший конец под рельсами
Ольга Фукс ,
"Вечерняя Москва"
16.03.2006
Вдруг без друга
Роман Должанский ,
"Коммерсантъ"
10.03.2006
Сюжет из газеты
Григорий Заславский ,
"Независимая газета"
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Вдруг без друга
Роман Должанский
"Коммерсантъ" ,
16.03.2006
Московский театр Et cetera показал свою первую премьеру в новом здании. Правда, случилась она не в ставшем уже столичной притчей во языцех большом зале, а в камерном. Михаил Угаров поставил здесь собственную пьесу «Газета'Русский инвалид' за 18 июля…». Рассказывает РОМАН Ъ-ДОЛЖАНСКИЙ. Если нынешние драматурги пишут пьесы про жизнь позапрошлого века, то их героями обычно становятся личности исторические. А если и простые люди, то лишь те, чьи судьбы оказываются волею авторов сопряжены с известными по учебникам событиями. Безвестные же обыватели, как правило, бывают только современниками драматургов. Михаил Угаров ставит подряд уже вторую современную пьесу, в которой действуют вымышленные персонажи давно минувших дней, занятые исключительно своей жизнью. И эпоха одна и та же - Россия, вторая половина позапрошлого века. Не надо долго объяснять, что, описывая людей давно минувших дней, вменяемые авторы занимаются не музейной реконструкцией быта предков, а разбираются с современностью и окольными путями высказывают сегодняшние мысли об обществе, об искусстве и о самих себе.Учитывая, что собственная Михаила Угарова пьеса «Газета'Русский инвалид' за 18 июля…» написана сравнительно давно, а пьеса Вячеслава Дурненкова «Три действия по четырем картинам», которую господин Угаров три месяца назад выпустил в театре «Практика», появилась сравнительно недавно, можно предположить, что вторая некоторым образом была вдохновлена первой. Однако в сочинении господина Дурненкова (см. Ъ от 22 декабря) гораздо больше розыгрышей, стеба, постмодернистских игр и психоделических подмигиваний зрителю. Что имел в виду автор, остается вопросом, открытым для дискуссий в гардеробе и в профессиональной прессе. «Русский инвалид» по сравнению с «Тремя действиями» прозрачен, как слеза комсомолки, а Угаров выглядит гармоничным классиком по сравнению с путаником Дурненковым. Нет, кто спорит, и в угаровской пьесе можно при желании обнаружить реминисценции и подводные течения, но главное, ее высказывание внятно как манифест. Даже как лозунг. Оно так и подается: актер Владимир Скворцов, играющий главного героя, литератора Ивана Павловича, забирается на кресло и торжественно провозглашает авторское творческое кредо: «Нельзя позволять впутывать себя в сюжет!»Как и до всякого мига, когда наступает ясность, до этого момента спектакля требуется дожить. Поначалу кажется, что все это черт знает что такое, а не театральная постановка. Вроде и декорация красивая, реалистическая, со стенами и мебелью, как в бульварном театре, и актеры говорят громко, и персонажи самые обычные — герой, его старая нянька, его племянник и племянница. Но впечатление такое, что актеры и сами не знают, зачем собрались: говорят ни о чем, то грубят друг другу, то шутят невпопад, постоянно интересуются временем и не могут наладить диалог. Минут через двадцать начинаешь украдкой заглядывать в программку, напечатанную в виде дореволюционной газеты. В ней мелким шрифтом напечатана вся пьеса, и если в темноте найдешь текущую реплику, то можно примерно оценить, сколько тебе еще осталось ерзать в кресле и недоумевать.Потом, как и было уже сказано, все встает на место. И единственное событие пьесы — старая любовь героя, женщина, когда-то бросившая его и лишившая покоя на всю жизнь, вновь приезжает и пишет письма, прося о встрече,- тоже находит свое объяснение. Не хочет герой встречаться с прошлым, потому что не хочет становиться персонажем сюжета, похожего на литературу. Ему нравится жить без происшествий, пописывая в газетку «Русский инвалид». Иван Павлович, как оказывается, вообще ненавидит беллетристику, любого рода описания и всяческие придуманные события. То есть авторскую фантазию как таковую. И особенную ненависть вызывает у него слово «вдруг» — куда лучше, когда жизнь течет себе и идет, без сюжетов. Герой приводит несколько остроумных примеров, и зритель уже готов согласиться с тем, что для человека нет ничего хуже превращения в персонажа какой-то банальной повестушки.В общем, тут и возразить нечего, вполне уважаемая жизненная и творческая позиция, хоть и не сногсшибательно оригинальная, но, вероятно, вполне достойная знакомства с ней в рамках очередного камерного театрального вечера. Но вот что интересно. Несколько лет назад драматург Михаил Угаров подался в режиссуру, можно сказать, тоже из ненависти — ко всяческим театральным «вдруг», то есть от недоверия ко всем сегодняшним режиссерам, якобы коверкающим пьесы своими интерпретациями, привнесенными в текст извне сюжетами. Но вот смотрим мы сегодня «Русский инвалид» и видим: в финале стены дома поворачиваются вокруг своей оси, герой с рюкзачком за спиной оказывается на улице, вдыхает дым и слышит свистки паровоза. В общем, сюжетофоб пустился-таки в жизненный сюжет, который, каким бы он ни оказался, наверняка скатится в банальность. То есть финал спектакля ровно противоречит финалу пьесы — вот уж интерпретация так интерпретация! Значит, поставив десяток спектаклей в самых разных театрах, даже драматург неизбежно, против своей воли, становится режиссером, и его бунт обречен. С одной стороны, это не может не огорчить. Но вдруг начинает радовать.