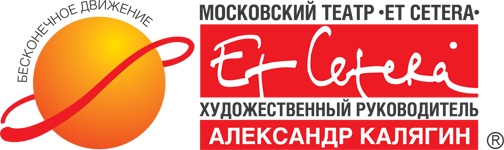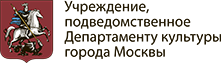Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Спектакль, который «не заметили»
Юрий Фридштейн
"Экран и сцена" ,
09.09.1993
Об антрепризе Александра Калягина «Et Cetera» писали много: интервью, анонсы первой постановки – «Дяди Вани»… Но вот спектакль вышел, вот уже закончился театральный сезон, а о нем – ни гу-гу. Тишина. Спектакль театральной общественности не подошел. И с ним поступили очень просто – сделали вид, что его не существует. Между тем режиссер Александр Сабинин поставил, на мой взгляд, необычный, неординарный спектакль и в череде интерпретаций этой пьесы, появившихся на московской сцене в прошлом сезоне, он, несомненно, занимает свое, ему одному принадлежащее место. Т разобраться в том, как и про что поставлена эта «версия», как мне кажется, крайне интересно. В постановке заняты актеры разных театров и, что важнее, разных школ: вахтанговцы – Василий Лановой (Астров), Владимир Симонов (Войницкий) и актер эфросовской школы Анатолий Грачев, играющий Серебрякова. Из этого, казалось бы, почти несовместимого в рамках одного спектакля сочетания рождается тем не менее единство, хотя чеховские герои выглядят весьма непривычно, можно сказать. Опрокидывая сложившиеся о них представления. Но рождается эта новизна и непривычность естественно, ненасильственно, рождается, прежде всего, из внимательного, почти въедливого вчитывания в текст – и это «вчитывание» позволяет актерам и режиссеру расслышать те интонации, тот смысл, что ускользали от других интерпретаторов. В этой новизне нет самоцели, но лишь естественный результат работы современных художников над классическим текстом, который каждому из них открывается собственным поворотом мысли. Непривычен Войницкий, которого Владимир Симонов подчас с чрезмерной настойчивостью развенчивает, играя «шута горохового», как аттестует его Астров. Нестерпимо шумного, нестерпимо пошлого, нестерпимо фальшивого во всем. Все его заклинания относительно Шопенгауэра и Достоевского, в нем будто бы «погибших», – полная ерунда. Он играет человека, который не случайно потратил всю жизнь на подсчеты гороха и постного масла, ибо ничего другого он сделать не в состоянии. Прекрасно понимаю, что подобное решение традиционно «романтического» и столь же традиционно нежно всеми нами любимого (и неизменно оплакиваемого) Ивана Петровича Войницкого, может и испугать, и оттолкнуть. И показаться «не-чеховским», но это так. Как мне кажется, Чехов, написавший свою последнюю пьесу за тринадцать лет до 1917 года, тем не менее, во многих произведениях – и не только драматических, пророчески (горестно-пророчески) воссоздавал в разных ситуациях, на примере самых разных героев процесс духовного вырождения дворянства, интеллектуальной элиты, просто – того, что называется в России интеллигенцией. И это отнюдь не только дядя Ваня – но и Лаевский (что фантастически точно, и тоже со скальпелем в руках, ощутил и сыграл Олег Даль); это же ощущение пронизывало замечательный фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», где именно распад – духовный, нравственный, интеллектуальный – был продемонстрирован на примере практически всех его героев. И венчал сонм этих людей персонаж Олега Табакова, с этим его «криком марала» и прочими замечательными актерскими находками, цель которых была одна – продемонстрировать всю глубину падения этого человека, этого представителя «белой кости», как он сам себя величает. И финал фильма – несостоявшееся самоубийство Платонова – все равно его смерть, его конец: достаточно вспомнить лицо Калягина в последних кадрах, его глаза. Выплеск, бунт, порыв водопад – и все. Характерно, что позже Иванов – развитие и уточнение Чеховым собственного Платонова – покончит-таки с собой, потому что не захочет превратиться в Лебедева. И ведь не убитый на дуэли Лаевский тоже уходит после нее мертвым человеком. Он отказывается от себя настоящего, предает собственные мечты. И пре красно это осознает – умный! Глаза Даля говорили об этом все то, что не было написано в тексте, но они говорили ровно то, что видел в судьбе героя Чехов. Ну. А если отвлечься от Чехова. Хотя усомниться в правоте его пророчеств трудно – их подтверждает История, но все же. Совсем иной пример, иной писатель, иная судьба. Борис Константинович Зайцев, роман «золотой узор», написанный в 1926 году: не за тринадцать лет до, а девять лет спустя… Не хочется пересказывать сюжет– он замечателен, занимателен и столь же трагичен, как и чеховские сюжеты, хотя. В отличие от большинства чеховских героев, героиня Зайцева трагизма этого не осознает, точнее, не умеет осознать, ей это не дано. Но та же, математически выверенная мысль, причем мысль, возникшая у писателя, уже живущего в эмиграции, уже все испытавшего и мучительно пытающегося осознать, осмыслить причины случившегося. И, увы, причина одна: слепота, праздность, потеря нравственных ориентиров у тех, кого привыкли называть «солью нации». Действительная, не на словах, утрата связей со страной, с ее жизнью, ее реальными бедами и проблемами. Можно ли представить на месте чеховской Раневской – Татьяну Ларину, на месте зайцевской Наташи – другую Наташу, Ростову, на месте, наконец, дяди Вани – Пьера Безухова? Вот, как мне кажется, истинное объяснение такого решения этого персонажа в спектакле Александра Сабинина. В нем – и историческая правда, и предостережение: утрата нравственных ориентиров наблюдается у интеллигенции и сейчас. И именно это, а не политика, экономика и прочее, может стать настоящей причиной гибели России. Ибо ничего не «производящая» интеллигенция, которую в течение почти века именовали «прослойкой», – в действительности, «производит» самое главное: то, что делает нацию – нацией, страну – страной; в конечном итоге, именно она и только она все определяет – и негласно, своим поведением, своим нравственным обликом, своим духовным подвигом – указывает путь! И если она эту нравственность утрачивает, если она начинает торговать своим Даром, как торгуют спичками, ваучерами и сникерсами – вот это и есть конец. Именно об этом – сначала предупреждали, а потом рассказывали, предупреждая на будущее, великие русские писатели, в которых и эта духовность, и этот нравственный подвиг были живы всегда – и в России, и в Париже. Понимая так судьбы героев дяди Вани, режиссер предлагает совершенно иной характер конфликта между Войницким и Серебряковым. Но тут, естественно, причина еще и в том, какого Серебрякова играет Анатолий Грачев. Грачев играет профессора Серебрякова действительно профессором, настоящим, не «дутым», не фальшивым, играет истинного интеллигента – мягкого, деликатного, почти застенчивого. Глядя на него, вслушиваясь в интонации голоса, понимаешь, что его действительно могла полюбить юная красавица Елена Андреевна, что его лекции действительно могли иметь шумный успех у самых взыскательных слушателей. При этом актер играет то, что сказано о его герое у автора. Грачев реабилитирует Серебрякова, он играет человека, который всю свою жизнь делал дело, работал, многого на своем поприще достиг. Теперь он стар, болен – в знаменитой «ночной» сцене Грачев заставляет нас почти физически ощутить страдания, которые испытывает его герой. К тому же он играет человека до мозга костей городского, для которого жизнь в деревне не просто не привычна, невыносима. И потому его план продажи имения, высказанный с крайней деликатностью, не только не звучит оскорбительно, но представляет собой лишь отчаянную попытку найти какой-то выход из западни, в которой он очутился на старости лет. В ответ вопли дяди Вани – реакция человека, не расслышавшего в словах Серебрякова ничего, кроме того, что его гонят из конуры, к которой он так привык. И все счеты его к Серебрякову, все обиды тридцатилетней давности – никчемны. Спокойное, сдержанное достоинство профессора и душевная расхристанность дяди Вани являют контраст поразительный! Их несовместимость – следствие прожитой каждым из них жизни, прошедших полярно, различно. Один «делал дело», другой – занимался краснобайством. И замечательно. Что в последнем акте знаменитые слова Серебрякова «надо делать дело» слышит и воспринимает Астров. Василий Лановой с присущей ему страстностью, пылкостью, романтической приподнятостью играет человека живого. И хотя он ставит себя «на одну доску» с Войницким, у него, и мы в это верим, есть силы и энергия восстать, воспарить и духом, и мыслью, и поступком. И не случайна тяга к нему Елены Андреевны, и их несостоявшаяся любовь звучит в спектакле как одна из самых трагичных его нот. В сцене прощания просыпается в Астрове молодость, неподдельная, чувственная страсть. И удивительно прозвучали для меня казалось бы ничего не значащие слова Елены Андреевны: «Этот карандаш я беру себе на память»: как нить, что протянулась между ними, хотя оба понимают, что прощаются навек, навсегда. Нежный, целомудренный поцелуй, потом, вдруг, безумие объятия и сразу – отрезвление. Стоят рядом, но уже не вместе. Поразительна в спектакле Соня – Наталья Щукина. Сдержанная. В какие-то моменты колючая, диковатая, закрытая – именно она, пережив, быть может, самое страшное в ее жизни потрясение, самую жестокую драму, находит силы простить и понять. Знаменитый финальный монолог она обращает не к дяде Ване, но к залу, к нам, и мы как будто бы впервые слышим эти удивительные по своей умиротворенности, абсолютной несуетности слова, почти пророческие, почти библейские. «Мы отдохнем…» Как каждую из пьес Чехова, и эту можно было бы назвать «Дом, где разбиваются сердца». Но в доме этом, из которого все бегут, который все покидают, пока еще есть Душа, и Душа эта, своеобразный его «домовой» – старая нянька Марина, которую замечательно играет Татьяна Ленникова. Она и водочки нальет, и сама выпьет, и споет что-то вместе с Астровым –неожиданно, пронзительно трогательно, и всех поймет, и утешит, и успокоит. Быть может, у нее одной сохранилась внутренняя цельность, которая вносит смысл в ее жизнь и потому делает ее центром всех происходящих событий, разговоров, ссор и примирений. Вот таким увиделся мне спектакль, поставленный Сабининым. И хочется, чтобы калягинская антреприза жила, чтобы у нее было развитие, продолжение, будущее. В одном из самых своих пронзительных и исповедальных писем Михаил Чехов именно это слово написал большими буквами: БУДУЩЕЕ. Ведь это значит, что жизнь продолжается.