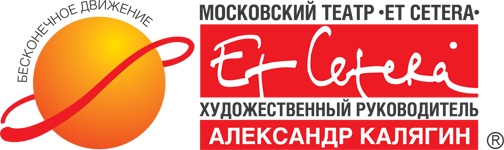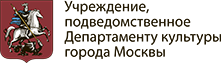19.12.2018
Онлайн – на одном дыхании
Максим Замшев ,
Литературная газета
06.12.2018
В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Феликс Грозданов ,
Дни.ру
24.10.2018
«Ничего не известно наверняка!»
Марина Токарева ,
Новая газета
23.10.2018
Как в «Et Cetera» делают публику из артистов
Максим Замшев ,
Литературная газета
19.10.2018
Адольф Шапиро поставил неизвестную пьесу Пиранделло, где все слегка безумны
Светлана Хохрякова ,
Московский комсомолец
17.09.2018
Гоголь и «Ревизор» московской школы в Театре Аргентина
Родольфо ди Джаммарко ,
La Repubblica di Roma («Римская республика»)
17.09.2018
Версия "Ревизора" Гоголя на сцене театра "Аргентина"
Риккардо Ченчи ,
Eurocomunicazione
16.09.2018
Приехал ревизор. Он стар, обездвижен и сидит в инвалидной коляске.
Энрико Фьоре ,
CONTROSCENA.NET
16.09.2018
В Рим приехал "Ревизор"!
Нива Миракян (Рим) ,
Российская газета - Федеральный выпуск №7670 (207)
14.09.2018
Версия с Александром Калягиным и актерами труппы Московского театра «Et Cetera»
Марикла Боджо ,
Criticateatrale.net
12.07.2018
Кто в замке король? В театре у Александра Калягина
Татьяна Москвина ,
Аргументы Недели
23.05.2018
Лабардан по-московски
Мария Кингисепп ,
Вечерний Санкт-Петербург
01.05.2018
Некто странной наружности
Елена Омеличкина
16.03.2018
Когда хочется жить...
Наталья Сажина ,
ТЕАТРОН
22.01.2018
Праздничный Ренессанс на сцене Et Cetera
Любовь Лебедина ,
Деловая Трибуна
18.01.2018
Любов във време на нелюбов с Морфов в Москва
Майя Праматарова ,
Площад Славейков
07.01.2018
Игра на живот и смърт по Морфов
Майя Праматарова ,
ОБАЧЕ
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Некто странной наружности
Елена Омеличкина
01.05.2018
Выдающийся режиссер Роберт Стуруа отказался от воспроизведения набивших оскомину атрибутов жизни уездного городка и не жонглирует бессмертной пьесой Николая Васильевича на злобу сегодняшнего дня. Его общение с текстом, как и подобает соавтору, — на равных. Мистификация Гоголя к этому вполне располагает. Стирая условности времени и пространства, она переносит всех в иное измерение, где грешники ожидают возмездия в страхе быть изгнанными из чиновничьего рая.
В мире-перевертыше немощный старик на инвалидном кресле, маленький, приниженный человек, перерождается в облеченного властью тирана, который и будет вершить над ними суд. Поистине страх и жажда власти вытаскивают наружу самые изощренные и фантастические образы.
Метафора этого кривозеркального королевства — нечаянно ожившая дворцовая люстра, танцующая под музыку давно отгремевшего бала, готовая в любой момент потухнуть, сорваться и ненароком кого-нибудь придавить. Дабы усмирить ее нрав, выносится палка-подпорка, но пригвоздить люстру к потолку никак не удается. Александр Боровский создал инфернальное пустое пространство Колизея с зияющими проемами окон, в которые попадают разряды нездешних, посылаемых Всевышним молний. Именно в такой момент выкатывается кресло-коляска с «инкогнито из Петербурга», почти что булгаковским иностранцем. Античные руины погружены в вечный мрак, здесь нет ни дверей, ни интерьеров, ни жителей, которые аккурат к приезду ревизора «выздоровели, как мухи». Оттого стайка чиновников все время на ногах, суетится, прислуживает, угождает. Мир мертвых душ порождает себе кумира под стать — старого, больного человека, а в его инвалидном кресле им мерещится заветный трон, символ абсолютной власти.
Хлестаков — гениальная работа Александра Калягина. И не только потому что вместо молодого и легкомысленного фигляра на сцене кристаллизуется образ старика, прожившего долгую и, вероятно, тяжелую жизнь. Он заключает в себе саму идею двойничества, простака и тирана в одном лице, Башмачкина, вдруг назначенного Наполеоном. Калека, укрытый пледом, с дрожащими руками и жалобным, просящим голосом, мечтает только о вкусном обеде да теплой комнате. Он засыпает на каждой фразе, храпит и грезит о несбывшемся — и с Пушкиным был на дружеской ноге, и министр сиживал у него в передней, и балы давал лучшие в столице. Но жизнь внезапно открывается перед ним с совершенно другой стороны. Всеобщее внимание и подхалимство сначала пугают Хлестакова, потом уже льстят старческому самолюбию, а под конец и вовсе возносят его в собственных глазах на самую вершину. Масштаб его невзрачной фигуры растет на глазах и заполняет собой все пространство.
Чиновники сливаются в одну черную массу, состоящую из масок — карьеристов, завистников, богомольцев. Больше всего они боятся оказаться за пределами системы административного мироздания, среди «мух». При этом их собственное жужжание почти нечленораздельно: они то говорят хором, то нелепо запинаются друг о друга. Горбатая Авдотья в монашеской рясе (Е. Рыжих), передвигающаяся исключительно на полусогнутых, и вовсе немая. Лишается способности говорить и слуга Хлестакова Осип (Г. Старостин).
В постапокалиптическом Вавилоне слова не играют больше никакой роли. Зато — по насмешливому контрасту — здесь звучит прекрасная музыка родом из разных стран — Верди, Пендерецкого, Дюка Эллингтона…
На общем фоне выделяется только хитроумный городничий, местный царек и предводитель (В. Скворцов). Он всеми силами пытается сохранить за собой насиженное место. Где-то глубоко внутри его мучит страх, что правда выплывет на поверхность и годами выстраиваемая им система даст сбой. В ночном кошмаре городничего вольнодумцы устраивают митинг и просят заезжего ревизора наказать коррупционеров. Значит, фигура Антона Антоновича слишком мала, ничтожна по сравнению с ним. Так рождается недосягаемая мечта — переехать в Петербург, выдав за важного гостя скромницу дочку (К. Гагуа), и — главное — хотя бы несколько минут посидеть на его троне. Но Хлестаков уже вырвался за пределы своей телесной оболочки, превратился во всеобщее наваждение, в призрак Акакия Акакиевича. «Я везде!» — зловеще повторяет некто, срывая шинели чиновников. Хлестаков бежит из этого мира не из-за настойчивых обхождений Анны Андреевны (Н. Благих), охотно оставшейся в неглиже перед стариком ради возможных привилегий, и не потому, что его, подобно дядюшке из повести Достоевского, хотят женить на юной особе, а только чтобы перевести дух, окончательно преобразиться. Неограниченная власть превращает его в совершенно другого человека.
Уверенной походкой он возвращается в виде настоящего ревизора, прямиком от его величества, и приказным тоном требует всех к себе. К тому же в руках у него неопровержимая улика против казнокрадов — саквояж с многомиллионной взяткой. Возникает знаменитая немая сцена, кладбищенскую тишину которой прерывает трескучий звук от электрического инвалидного кресла, на этот раз пустого.
Толпа уже взрастила своего кумира и палача, но столь лакомое место не будет пустовать долго. И занять его может любой, кто окажется в нужное время в нужном месте.
В мире-перевертыше немощный старик на инвалидном кресле, маленький, приниженный человек, перерождается в облеченного властью тирана, который и будет вершить над ними суд. Поистине страх и жажда власти вытаскивают наружу самые изощренные и фантастические образы.
Метафора этого кривозеркального королевства — нечаянно ожившая дворцовая люстра, танцующая под музыку давно отгремевшего бала, готовая в любой момент потухнуть, сорваться и ненароком кого-нибудь придавить. Дабы усмирить ее нрав, выносится палка-подпорка, но пригвоздить люстру к потолку никак не удается. Александр Боровский создал инфернальное пустое пространство Колизея с зияющими проемами окон, в которые попадают разряды нездешних, посылаемых Всевышним молний. Именно в такой момент выкатывается кресло-коляска с «инкогнито из Петербурга», почти что булгаковским иностранцем. Античные руины погружены в вечный мрак, здесь нет ни дверей, ни интерьеров, ни жителей, которые аккурат к приезду ревизора «выздоровели, как мухи». Оттого стайка чиновников все время на ногах, суетится, прислуживает, угождает. Мир мертвых душ порождает себе кумира под стать — старого, больного человека, а в его инвалидном кресле им мерещится заветный трон, символ абсолютной власти.
Хлестаков — гениальная работа Александра Калягина. И не только потому что вместо молодого и легкомысленного фигляра на сцене кристаллизуется образ старика, прожившего долгую и, вероятно, тяжелую жизнь. Он заключает в себе саму идею двойничества, простака и тирана в одном лице, Башмачкина, вдруг назначенного Наполеоном. Калека, укрытый пледом, с дрожащими руками и жалобным, просящим голосом, мечтает только о вкусном обеде да теплой комнате. Он засыпает на каждой фразе, храпит и грезит о несбывшемся — и с Пушкиным был на дружеской ноге, и министр сиживал у него в передней, и балы давал лучшие в столице. Но жизнь внезапно открывается перед ним с совершенно другой стороны. Всеобщее внимание и подхалимство сначала пугают Хлестакова, потом уже льстят старческому самолюбию, а под конец и вовсе возносят его в собственных глазах на самую вершину. Масштаб его невзрачной фигуры растет на глазах и заполняет собой все пространство.
Чиновники сливаются в одну черную массу, состоящую из масок — карьеристов, завистников, богомольцев. Больше всего они боятся оказаться за пределами системы административного мироздания, среди «мух». При этом их собственное жужжание почти нечленораздельно: они то говорят хором, то нелепо запинаются друг о друга. Горбатая Авдотья в монашеской рясе (Е. Рыжих), передвигающаяся исключительно на полусогнутых, и вовсе немая. Лишается способности говорить и слуга Хлестакова Осип (Г. Старостин).
В постапокалиптическом Вавилоне слова не играют больше никакой роли. Зато — по насмешливому контрасту — здесь звучит прекрасная музыка родом из разных стран — Верди, Пендерецкого, Дюка Эллингтона…
На общем фоне выделяется только хитроумный городничий, местный царек и предводитель (В. Скворцов). Он всеми силами пытается сохранить за собой насиженное место. Где-то глубоко внутри его мучит страх, что правда выплывет на поверхность и годами выстраиваемая им система даст сбой. В ночном кошмаре городничего вольнодумцы устраивают митинг и просят заезжего ревизора наказать коррупционеров. Значит, фигура Антона Антоновича слишком мала, ничтожна по сравнению с ним. Так рождается недосягаемая мечта — переехать в Петербург, выдав за важного гостя скромницу дочку (К. Гагуа), и — главное — хотя бы несколько минут посидеть на его троне. Но Хлестаков уже вырвался за пределы своей телесной оболочки, превратился во всеобщее наваждение, в призрак Акакия Акакиевича. «Я везде!» — зловеще повторяет некто, срывая шинели чиновников. Хлестаков бежит из этого мира не из-за настойчивых обхождений Анны Андреевны (Н. Благих), охотно оставшейся в неглиже перед стариком ради возможных привилегий, и не потому, что его, подобно дядюшке из повести Достоевского, хотят женить на юной особе, а только чтобы перевести дух, окончательно преобразиться. Неограниченная власть превращает его в совершенно другого человека.
Уверенной походкой он возвращается в виде настоящего ревизора, прямиком от его величества, и приказным тоном требует всех к себе. К тому же в руках у него неопровержимая улика против казнокрадов — саквояж с многомиллионной взяткой. Возникает знаменитая немая сцена, кладбищенскую тишину которой прерывает трескучий звук от электрического инвалидного кресла, на этот раз пустого.
Толпа уже взрастила своего кумира и палача, но столь лакомое место не будет пустовать долго. И занять его может любой, кто окажется в нужное время в нужном месте.