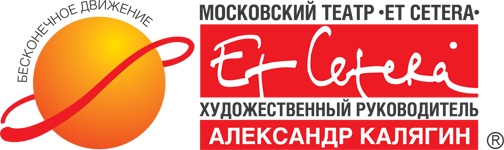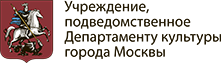01.04.2023
В Московском театре «Et Cetera» режиссер Владимир Панков поставил комедию Николая Эрдмана
Анастасия Плешакова ,
Комсомольская правда
31.03.2023
Цена личной свободы
Нина Карпова ,
Театральная афиша столицы
26.03.2023
Марина Брусникина: Островский - по-настоящему живой автор. Потому что ничего не изменилось ни в людских характерах, ни в отношениях
Ольга Штраус ,
Российская газета
21.03.2023
Театр заговорил со зрителем о проблеме домашнего насилия
Елизавета Авдошина ,
Независимая газета
26.02.2023
Ода конформизму. Театр "Et cetera" отметил 30-летие премьерой "Мандата"
Елизавета Авдошина ,
Независимая газета
06.02.2023
Театр Et Cetera предъявил «Мандат»
Елена Федоренко ,
газета "Культура"
04.02.2023
Люди в лапше не тонут
Слава Шадронов ,
livejournal /arlekin-/
02.02.2023
Премьера спектакля "Мандат": как театр Et Cetera отметил свой юбилей
Ольга Романцова ,
ТАСС
13.01.2023 17:15:00
Всегда актуальный Островский, или "О женской доли на Руси".
Russia News
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Ода конформизму. Театр "Et cetera" отметил 30-летие премьерой "Мандата"
Елизавета Авдошина
Независимая газета ,
26.02.2023
Театр под руководством Александра Калягина первый крупный юбилей отмечает сообразно времени – не праздничным помпезным торжеством, а остросатирической премьерой. Советскую пьесу «Мандат» поставил в авторском жанре саундрамы Владимир Панков – музыкально, ярко и зрелищно. Но остроумие Николая Эрдмана вновь оказалось недосягаемым.
Эрдман – драматург парадоксальной судьбы, запрещенный для театра и ссыльный, он получает за работу в кино главную награду сталинской эпохи. Столь же неординарны сценические судьбы его пьес, хранящихся на полках театральной истории прошлого века. В отличие от «Самоубийцы» его первая пьеса «Мандат» имела, хоть и не длинную, но громкую сценическую историю начиная с чрезвычайно успешной постановки Мейерхольда в 1925 году с Эрастом Гариным, звездой ГосТИМа, в главной роли. И в спектакле «Et cetera» сценограф Максим Обрезков играет узнаваемыми образами: пространство сцены утраивается и помимо дублирующих кроваво-красных занавесов яркими акцентами на тотальном сером фоне одинаковых коммунальных дверей, лезущих аж на «потолок», становятся красные конструктивистские лестницы-трансформеры. Именно к ним выстраиваются в прологе герои в безмолвной очереди с чемоданами в руках, будто к трапу корабля, обозначая отсчет времени – эмиграцию 20-х годов. Заканчивается же пьеса предчувствием молоха репрессий 30-х.
Между двумя этими точками и умещается история самозванца Павла Гулячкина, самому себе выписывающего мандат, чтобы прослыть партийным коммунистом. В сюжетной основе «Мандата» – комедия положений. Семья разоренных мещан Гулячкиных готовит сватовство дочери: предприимчивая мамаша подговаривает сына стать «живым приданым» – коммунистом для сестры в помолвке с сыном «образованного гражданина», ведь быть партийным теперь выгодно и престижно. Для закрепления репутации нужно еще найти в родственники представителей рабочего класса… да принять первых с шампанским и кулебякой, а вторых – самоваром с самогоном и не перепутать… но пока суть да дело, кухарка облачается в платье императрицы – его оставила схоронить на время обыска знакомая барыня.
Однако время здесь не линейно, а скорее фрагментарно: в стремлении осовременить и без того злободневного Эрдмана Панков в конкретное послереволюционное время привносит и другие эпохи, чем только сбивает зрителя с толку. Вместо картины (решается, что будет висеть: «Верую, Господи, верую» или «Вечер в Копенгагене», с оборотной стороны которого приклеен портрет Маркса, чтобы угодить каждому гостю) мать Гулячкина глядит в новое «орудие пропаганды» – телевизор. Сестра Варвара, которую все собираются, да так и не выдадут замуж, распевает послевоенный шлягер Утесова, а в эпизодических пародиях проскальзывает и Андрей Макаревич, и Рената Литвинова. Венчает темпоральный и режиссерский алогизм фигура Сталина, в которого неожиданно перевоплощается Автоном Сигизмундович (Грант Каграманян), дядя незадачливого жениха, на деле – монархист. Еще один неудачный режиссерский прием откровенно тормозит водевильное действие: в список действующих лиц введен мрачный Следователь (Елизавета Рыжих), представляющий героев и зачитывающий ремарки автора. По задумке прием должен упростить восприятие сложносочиненной фабулы, но на поверку оборачивается излишней и даже буквалистской театральностью.
«Комедию Эрдмана легко обвинить в чрезмерной хаотичности и несосредоточенности действия. Мастерски сделанное сценическое слово преобладает над действием – автор бросает в зал безудержные и разящие остроты» – так писал Павел Марков о премьере Мейерхольда в газете «Правда» после дебюта Эрдмана. Спектакль Панкова не только не сглаживает эти «минусы» пьесы, но теряет и главные козыри. «Простота» водевильных приемов оказывается чрезвычайно сложной в исполнении, оборачиваясь наигрышем и фальшивыми нотами актерской игры, искрометность юмора блекнет, к тому же увязая в сугубо революционной тематике, с трудом разворачивающейся в универсализм.
Клоунадность, шаржевость и гротеск Панков формально усиливает, подчеркивает: и нарочитым гримом героев с выбеленными лицами, резкими бровями и накладными носами, и заостренной пластикой, и костюмами с толстинками, и динамикой стихии мюзик-холла. Но только актерам, насытившим внешнюю эксцентрику комедией истинной, не только «одевшим» на себя рисунок роли, но тонко нашедшим баланс и антитезу реализма и пародии, театра буффонады и театра исторического, создавшим художественный типаж, – удается играть органично, без крикливой избыточности и «мыльной оперы». Наталье Баландиной – матери Гулячкиных, рассуждающей как «несознательный элемент», Даниле Никитину – коммунальному соседу Широнкину, чуть не утонувшему в лапше, Марине Чураковой – романической кухарке Настьке, Наталье Благих – декадентской девице Варьке Гулячкиной. А вот Павлуша Григория Старостина – «при всяком режиме бессмертный человек» – имея подходящую, хамелеонистую, фактуру актера, глубинной игры, к несчастью, избегает. Гибкость тела обозначена, как и попытка усидеть на двух стульях, а вот приспособленчество души скорее обговорено, а не сыграно. Нерв трагикомедии не найден.
«Шарманщик. Нынче очень много людей из ума выживают, потому как старые мозги нового режима не выдерживают». Сколько же еще столетий человеческая жизнь в России будет подчинена режимам?
Источник: https://www.ng.ru/culture/2023-02-26/7_8667_culture.html
Эрдман – драматург парадоксальной судьбы, запрещенный для театра и ссыльный, он получает за работу в кино главную награду сталинской эпохи. Столь же неординарны сценические судьбы его пьес, хранящихся на полках театральной истории прошлого века. В отличие от «Самоубийцы» его первая пьеса «Мандат» имела, хоть и не длинную, но громкую сценическую историю начиная с чрезвычайно успешной постановки Мейерхольда в 1925 году с Эрастом Гариным, звездой ГосТИМа, в главной роли. И в спектакле «Et cetera» сценограф Максим Обрезков играет узнаваемыми образами: пространство сцены утраивается и помимо дублирующих кроваво-красных занавесов яркими акцентами на тотальном сером фоне одинаковых коммунальных дверей, лезущих аж на «потолок», становятся красные конструктивистские лестницы-трансформеры. Именно к ним выстраиваются в прологе герои в безмолвной очереди с чемоданами в руках, будто к трапу корабля, обозначая отсчет времени – эмиграцию 20-х годов. Заканчивается же пьеса предчувствием молоха репрессий 30-х.
Между двумя этими точками и умещается история самозванца Павла Гулячкина, самому себе выписывающего мандат, чтобы прослыть партийным коммунистом. В сюжетной основе «Мандата» – комедия положений. Семья разоренных мещан Гулячкиных готовит сватовство дочери: предприимчивая мамаша подговаривает сына стать «живым приданым» – коммунистом для сестры в помолвке с сыном «образованного гражданина», ведь быть партийным теперь выгодно и престижно. Для закрепления репутации нужно еще найти в родственники представителей рабочего класса… да принять первых с шампанским и кулебякой, а вторых – самоваром с самогоном и не перепутать… но пока суть да дело, кухарка облачается в платье императрицы – его оставила схоронить на время обыска знакомая барыня.
Однако время здесь не линейно, а скорее фрагментарно: в стремлении осовременить и без того злободневного Эрдмана Панков в конкретное послереволюционное время привносит и другие эпохи, чем только сбивает зрителя с толку. Вместо картины (решается, что будет висеть: «Верую, Господи, верую» или «Вечер в Копенгагене», с оборотной стороны которого приклеен портрет Маркса, чтобы угодить каждому гостю) мать Гулячкина глядит в новое «орудие пропаганды» – телевизор. Сестра Варвара, которую все собираются, да так и не выдадут замуж, распевает послевоенный шлягер Утесова, а в эпизодических пародиях проскальзывает и Андрей Макаревич, и Рената Литвинова. Венчает темпоральный и режиссерский алогизм фигура Сталина, в которого неожиданно перевоплощается Автоном Сигизмундович (Грант Каграманян), дядя незадачливого жениха, на деле – монархист. Еще один неудачный режиссерский прием откровенно тормозит водевильное действие: в список действующих лиц введен мрачный Следователь (Елизавета Рыжих), представляющий героев и зачитывающий ремарки автора. По задумке прием должен упростить восприятие сложносочиненной фабулы, но на поверку оборачивается излишней и даже буквалистской театральностью.
«Комедию Эрдмана легко обвинить в чрезмерной хаотичности и несосредоточенности действия. Мастерски сделанное сценическое слово преобладает над действием – автор бросает в зал безудержные и разящие остроты» – так писал Павел Марков о премьере Мейерхольда в газете «Правда» после дебюта Эрдмана. Спектакль Панкова не только не сглаживает эти «минусы» пьесы, но теряет и главные козыри. «Простота» водевильных приемов оказывается чрезвычайно сложной в исполнении, оборачиваясь наигрышем и фальшивыми нотами актерской игры, искрометность юмора блекнет, к тому же увязая в сугубо революционной тематике, с трудом разворачивающейся в универсализм.
Клоунадность, шаржевость и гротеск Панков формально усиливает, подчеркивает: и нарочитым гримом героев с выбеленными лицами, резкими бровями и накладными носами, и заостренной пластикой, и костюмами с толстинками, и динамикой стихии мюзик-холла. Но только актерам, насытившим внешнюю эксцентрику комедией истинной, не только «одевшим» на себя рисунок роли, но тонко нашедшим баланс и антитезу реализма и пародии, театра буффонады и театра исторического, создавшим художественный типаж, – удается играть органично, без крикливой избыточности и «мыльной оперы». Наталье Баландиной – матери Гулячкиных, рассуждающей как «несознательный элемент», Даниле Никитину – коммунальному соседу Широнкину, чуть не утонувшему в лапше, Марине Чураковой – романической кухарке Настьке, Наталье Благих – декадентской девице Варьке Гулячкиной. А вот Павлуша Григория Старостина – «при всяком режиме бессмертный человек» – имея подходящую, хамелеонистую, фактуру актера, глубинной игры, к несчастью, избегает. Гибкость тела обозначена, как и попытка усидеть на двух стульях, а вот приспособленчество души скорее обговорено, а не сыграно. Нерв трагикомедии не найден.
«Шарманщик. Нынче очень много людей из ума выживают, потому как старые мозги нового режима не выдерживают». Сколько же еще столетий человеческая жизнь в России будет подчинена режимам?
Источник: https://www.ng.ru/culture/2023-02-26/7_8667_culture.html