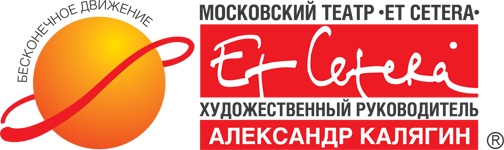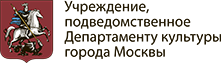16.12.2016
Комедия с горьким привкусом неприглядной правды
Анжелика Губина ,
Вечерняя Москва
25.10.2016
Сладко-кислая премьера в театре «Et Cetera»
Алексей Филиппов ,
Кино-театр
23.10.2016
Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Премьера спектакля «Лодочник»
Анна Макрищева ,
DailyCulture
01.03.2016
Мы оплачем не спеша малыша-карандаша: «Утиная охота» В.Панкова в Московском театре «Et Cetera»
Евгений Авраменко ,
Петербургский театральный журнал
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Мы оплачем не спеша малыша-карандаша: «Утиная охота» В.Панкова в Московском театре «Et Cetera»
Евгений Авраменко
Петербургский театральный журнал ,
01.03.2016
Что произойдет, если открыть «Утиную охоту» ключом «саундрамы», как это сделал Владимир Панков в театре «Et Cetera»? Студия Саундрама, коллектив музыкантов-хореографов-актеров-звукорежиссеров п/р Панкова, создает проекты на грани драматического театра и мюзикла. Стало быть, «поючее действо» на широкую аудиторию — и с неизбежным спрямлением смыслов? Ага. Действо куражистое, красочное, в нем не место мхатовским паузам и полутонам. Как там говорит Галина? «Прощай, предместье, мы едем на Бродвей!» Мы едем-едем-едем: режиссером задан мотив путешествия по пьесе и за ее пределами, неспроста многие эпизоды происходят на фоне алого горбатого запорожца.
…И вот Наталья Благих — Вера, эффектная блондинка с химзавивкой, выныривая из зиловского гроба, как из кулисы, страстно и лихо поет: «Верка — дока, Верка — профи, ведь любимый Веркин профиль — деловые, заняты́е верные мужья…» Музыка западает в память. Слова проецируются на экран, как титры в караоке. И припев! «Алики, алики, где ж вы мои алики, / Малыши-карандаши, мальчики-фонарики…»
Или Марина Чуракова в роли Саяпиной, рыжеволосой толстушки, кометой врывающейся на сцену, поздравляет Зиловых с новосельем: «Чтобы весело жилось, и стоялось, и моглось!»
А Ирина, которая благодаря назначению на эту роль Сэсэг Хапсасовой стала буряточкой, — это же чудо что такое!..
Действо идет под постоянный аккомпанемент — живой музыки в том числе. Эксперименты со звуком позволили ему стать объемным, как бы физически ощутимым.
Эта «Утиная охота» представилась вам разухабистой? Однако с самого начала кажется, что смерть Зилова — не шутка его друзей, что он в самом деле умер. Несмотря на стильную красочность визуального ряда, memento mori ощущается во всем. И алый гроб, в котором «алик из аликов» застигнут зрителем в начале, на сцене всегда, только меняет функцию в зависимости от мизансцены: становится то скамейкой, которую подарили на новоселье, то плывущей по водной глади лодкой с силуэтом сидящей в ней Ирины…
У Вампилова действие происходит в разных реальностях, разных временах, перемещаться по которым он предлагает с помощью поворотного круга. Есть настоящее время — после мнимой смерти Зилова, когда герой один в комнате, а за окном вечный дождь; и есть флешбэки — прошлое, согласно ремарке, лица и разговоры, вызванные воображением Зилова, про что режиссеры чаще всего словно забывают.
У Панкова нет никакой «объективной реальности». Художник Максим Обрезков создал единый на все действие павильон: огромный, с серыми стенами — обшарпанными и с подтеками. Это как бы и еще не обжитая квартира Виктора с Галиной, и советское бюро, где работает Зилов, и просто павильон для игры. Персонажи множатся — для этого режиссером и введены «хоры», мужской и женский. «Хористы» не только поют и танцуют (хореография Екатерины Кисловой), но и «аккомпанируют» пластически, словно отражая мизансцены главных героев.
Персонажи движутся по оси сюжета с помощью трех «вечных» старух (Людмила Дмитриева, Татьяна Владимирова, Елизавета Рыжих), этаких слуг просцениума, чье ненавязчивое присутствие не столько функционально (помочь сменить декорации или принести-унести реквизит), сколько создает атмосферу.
Ткань спектакля прошита прихотливыми ассоциациями, в том числе и ностальгически отсылающими к корням Вампилова — Бурятии, Байкалу, Кутулику как географическим истокам мировидения драматурга.
И кажется: принципы, на которых держится спектакль, — рассредоточенность действия, бесконечный наплыв сцен одна на другую, размывание конкретных черт персонажей, но и острая театральность… все это — чтобы исказить реальность, передать морок сознания и… состояние души, покинувшей тело? В этом сценическом мире все уже свершилось и все смешалось. И зачем стремиться на охоту? Вот оно, озеро: планшет сцены залит водой, и все ходят в резиновых сапогах с прилипшей осокой. И достать ружье и подстрелить утку можно в какой угодно момент, благо что анимированные водоплавающие летят и летят на экране (а еще нарисованы на костюмах персонажей). Однажды тушка — бутафорская — даже падает с колосников на поднос официанту Диме.
А что же Зилов? Столько едем, а об актере ни слова. Да потому, что герой Антона Пахомова поначалу теряется на пестром фоне. А еще Зилов довольно статичен, не проходит эволюции от начала к финалу (потому, что «все свершилось»?), разве что поворачивается то одной, то другой гранью своей натуры, прямо скажем, неожиданно неприятной. Невысокого роста, бритый наголо, щуплый и вертлявый, этот Зилов порой раздражает омерзительными ужимками и шуточками. Есть в нем что-то гопническое.
Сам факт, что такой-то актер играет главную роль в «Утиной охоте», чаще всего свидетельство определенной его «статусности». Парадокс в том, что неприкаянного, «периферийного», в конечном счете несостоявшегося человека играют актеры харизматичные и, скажем так, знатные. Олег Даль, Андрей Мягков, Константин Хабенский, Евгений Цыганов (в прошлогодней вольной экранизации «Утиной охоты» под названием «Райские кущи», режиссер Александр Прошкин) — все они знаковые актеры своего времени, и это заведомо придает роли масштаб. Крайние примеры в истории постановок пьесы — когда главную роль играл режиссер спектакля, да еще и возглавляющий театр, где этот спектакль идет, как было в случае с Олегом Ефремовым (МХАТ) и Владимиром Андреевым (Театр имени Ермоловой).
«Утиная охота» в трактовке Панкова напоминает о «Пере Гюнте». Пахомову удалось сыграть человека, сущность которого ускользает, которого сложно взять на карандаш. У Ибсена часть действия тоже происходит в мире по ту сторону, где герою грозит переплавка, от которой его спасает Сольвейг. («Многофигурное, шумное, почти мистериальное действо…» — заметила Н. Каминская об «Утиной охоте» в «Et Cetera».) Пахомов играет без малейших попыток утеплить роль. Вначале Зилова толком и не рассмотреть за музыкально-визуальной избыточностью спектакля. Но вдруг — во время диалога с женой — крупный план, и герой на мгновение высвечен как человек страдающий. И потом, ближе к финалу, его неврастеничное ерничество вдруг оборачивается шутовством, пронизанным горечью. Это изменение ракурса поддержано музыкальным рядом, где песни «бродвейски»-бравурные или блатные («Друзья, купите папиросы») сменяются грустными, щемящими мелодиями, а к финалу композиция венчается «Печалью» Цоя: «Дом стоит, свет горит, / Из окна видна даль. / Так откуда взялась печаль?»
Женщины в этом сценическом мире более сложны, чем мужчины, и более прорисованы. И Галина, изящно сыгранная Анжелой Белянской, — умная, с печатью благородства, из тех женщин, что держат спину прямой. И «контральто» Вера в исполнении Натальи Благих; Вера, которую при всей ее эротичной задиристости язык не повернется назвать распутной. И если в этом сценическом мире, где дом стоит, свет горит, может возникнуть Сольвейг, то это, безусловно, Сэсэг Хапсасова в роли Ирины, девушки первозданной чистоты, нелепой в своей наивности. Этакий князь Мышкин в платье, только по-буддийски созерцательный, променявший тихий бурятский поселок на мегаполис. «Зачем вы так?» — выдавливает из себя Ирина с ласковой улыбкой, обращаясь к Зилову, и столько в этом беззащитности…
— У нас в Бурятии нет оленей.
— А что? — спрашивает Зилов.
— Байкал, степь…
В одной сцене Ирина отвечает герою без слов — мощной звуковой волной, накрывающей зрителей, и в этом ощущается протест, боль, духовная сила, сострадание Зилову. Знакомиться с его друзьями в «Незабудку» Ирина является в восточном одеянии (художник по костюмам Сергей Агафонов): остроконечный шлем, шитое золотом облачение, бусы, ленты, огромные мохнатые крылья. Публике явлен апофеоз женской силы. Ирина — как бы воительница из комиксов-саг, способная мистически преодолевать пространства, сражаясь за чью-то душу. Или это ангел смерти, что вечно реет?..
В драматургии спектакля имеет значение разность цивилизаций, к которым принадлежат герои. Среди заведомо блеклых мужчин, под стать Зилову не вызывающих особой симпатии, выделяется официант Дима — Амаду Мамадаков. Цельный, внутренне весомый, Дима существует в иных координатах; и в подкрепление восточной внешности как знака отличия — техника горлового пения, который пользуется артист, пропевая иные реплики будто мантры.
Спектакль Панкова красив открыточной красотой и, как ни странно, герметичен, словно отделен от зрителя невидимой стеной. Порой, особенно в сценах с Ириной и Димой, энергетическая волна проникает сквозь нее протуберанцами, даже разрезает ее. Но все-таки смыслы воспринимаются в большей степени через визуальный ряд, нежели драматическую энергию. Противоречие еще и в том, что в спектакле, где линейная логика отменена в угоду мозаичности, зрителю почему-то приходится методично следовать по пьесе; и повествовательность действия порой избыточна — для того типа театра, где важны не хитросплетения сюжета, но ассоциации, выплески сознания. Зрителям, не читавшим пьесу, сложно разобраться, кто кому кем приходится. А идет спектакль почти четыре часа.
Смыслы эффектно визуализируются: тут в помощь и клиповый монтаж, и сложное построение мизансцен, и яркость цвета, и мастерство художника по свету Николая Суркова. Удивительно, как в таком сконденсированном театральном тексте, где зрителю, казалось бы, не остается пространства для домысливания, вдруг звучат чеховские мотивы, возникает чеховская интонация…
…Возникает, когда с течением действия выясняется, что оркестр (доселе затемненный) сидит в самой глубине сцены, за пределами павильона. Солнечные лучи пробиваются сквозь заляпанные стекла огромных окон — и видимое пространство как бы размывается, и в нем «монтируются» разные времена, лирически оживают призраки прошлого. И круглый абажур лампы преображается в полную луну, и диалог-воспоминание Зилова и Галины об их первых встречах кажется романтическим сном.
…Когда бесконечно льет дождь…
…Когда вновь выходят старухи, три вечные сестры, молчаливо соучаствующие героям…
…и запредельная тоска…
В финале гроб закрывают, ставят на алый запорожец и толкают вглубь. Зилов стоит на авансцене, растерянно и вопросительно повторяя: «Я жив, я жив»…
Но старухи упрямо толкают горбатого. Эй, тройка, куда катишь ты? Не дает ответа.
По тональности финал просветленный. Льет вечный дождь.
…И вот Наталья Благих — Вера, эффектная блондинка с химзавивкой, выныривая из зиловского гроба, как из кулисы, страстно и лихо поет: «Верка — дока, Верка — профи, ведь любимый Веркин профиль — деловые, заняты́е верные мужья…» Музыка западает в память. Слова проецируются на экран, как титры в караоке. И припев! «Алики, алики, где ж вы мои алики, / Малыши-карандаши, мальчики-фонарики…»
Или Марина Чуракова в роли Саяпиной, рыжеволосой толстушки, кометой врывающейся на сцену, поздравляет Зиловых с новосельем: «Чтобы весело жилось, и стоялось, и моглось!»
А Ирина, которая благодаря назначению на эту роль Сэсэг Хапсасовой стала буряточкой, — это же чудо что такое!..
Действо идет под постоянный аккомпанемент — живой музыки в том числе. Эксперименты со звуком позволили ему стать объемным, как бы физически ощутимым.
Эта «Утиная охота» представилась вам разухабистой? Однако с самого начала кажется, что смерть Зилова — не шутка его друзей, что он в самом деле умер. Несмотря на стильную красочность визуального ряда, memento mori ощущается во всем. И алый гроб, в котором «алик из аликов» застигнут зрителем в начале, на сцене всегда, только меняет функцию в зависимости от мизансцены: становится то скамейкой, которую подарили на новоселье, то плывущей по водной глади лодкой с силуэтом сидящей в ней Ирины…
У Вампилова действие происходит в разных реальностях, разных временах, перемещаться по которым он предлагает с помощью поворотного круга. Есть настоящее время — после мнимой смерти Зилова, когда герой один в комнате, а за окном вечный дождь; и есть флешбэки — прошлое, согласно ремарке, лица и разговоры, вызванные воображением Зилова, про что режиссеры чаще всего словно забывают.
У Панкова нет никакой «объективной реальности». Художник Максим Обрезков создал единый на все действие павильон: огромный, с серыми стенами — обшарпанными и с подтеками. Это как бы и еще не обжитая квартира Виктора с Галиной, и советское бюро, где работает Зилов, и просто павильон для игры. Персонажи множатся — для этого режиссером и введены «хоры», мужской и женский. «Хористы» не только поют и танцуют (хореография Екатерины Кисловой), но и «аккомпанируют» пластически, словно отражая мизансцены главных героев.
Персонажи движутся по оси сюжета с помощью трех «вечных» старух (Людмила Дмитриева, Татьяна Владимирова, Елизавета Рыжих), этаких слуг просцениума, чье ненавязчивое присутствие не столько функционально (помочь сменить декорации или принести-унести реквизит), сколько создает атмосферу.
Ткань спектакля прошита прихотливыми ассоциациями, в том числе и ностальгически отсылающими к корням Вампилова — Бурятии, Байкалу, Кутулику как географическим истокам мировидения драматурга.
И кажется: принципы, на которых держится спектакль, — рассредоточенность действия, бесконечный наплыв сцен одна на другую, размывание конкретных черт персонажей, но и острая театральность… все это — чтобы исказить реальность, передать морок сознания и… состояние души, покинувшей тело? В этом сценическом мире все уже свершилось и все смешалось. И зачем стремиться на охоту? Вот оно, озеро: планшет сцены залит водой, и все ходят в резиновых сапогах с прилипшей осокой. И достать ружье и подстрелить утку можно в какой угодно момент, благо что анимированные водоплавающие летят и летят на экране (а еще нарисованы на костюмах персонажей). Однажды тушка — бутафорская — даже падает с колосников на поднос официанту Диме.
А что же Зилов? Столько едем, а об актере ни слова. Да потому, что герой Антона Пахомова поначалу теряется на пестром фоне. А еще Зилов довольно статичен, не проходит эволюции от начала к финалу (потому, что «все свершилось»?), разве что поворачивается то одной, то другой гранью своей натуры, прямо скажем, неожиданно неприятной. Невысокого роста, бритый наголо, щуплый и вертлявый, этот Зилов порой раздражает омерзительными ужимками и шуточками. Есть в нем что-то гопническое.
Сам факт, что такой-то актер играет главную роль в «Утиной охоте», чаще всего свидетельство определенной его «статусности». Парадокс в том, что неприкаянного, «периферийного», в конечном счете несостоявшегося человека играют актеры харизматичные и, скажем так, знатные. Олег Даль, Андрей Мягков, Константин Хабенский, Евгений Цыганов (в прошлогодней вольной экранизации «Утиной охоты» под названием «Райские кущи», режиссер Александр Прошкин) — все они знаковые актеры своего времени, и это заведомо придает роли масштаб. Крайние примеры в истории постановок пьесы — когда главную роль играл режиссер спектакля, да еще и возглавляющий театр, где этот спектакль идет, как было в случае с Олегом Ефремовым (МХАТ) и Владимиром Андреевым (Театр имени Ермоловой).
«Утиная охота» в трактовке Панкова напоминает о «Пере Гюнте». Пахомову удалось сыграть человека, сущность которого ускользает, которого сложно взять на карандаш. У Ибсена часть действия тоже происходит в мире по ту сторону, где герою грозит переплавка, от которой его спасает Сольвейг. («Многофигурное, шумное, почти мистериальное действо…» — заметила Н. Каминская об «Утиной охоте» в «Et Cetera».) Пахомов играет без малейших попыток утеплить роль. Вначале Зилова толком и не рассмотреть за музыкально-визуальной избыточностью спектакля. Но вдруг — во время диалога с женой — крупный план, и герой на мгновение высвечен как человек страдающий. И потом, ближе к финалу, его неврастеничное ерничество вдруг оборачивается шутовством, пронизанным горечью. Это изменение ракурса поддержано музыкальным рядом, где песни «бродвейски»-бравурные или блатные («Друзья, купите папиросы») сменяются грустными, щемящими мелодиями, а к финалу композиция венчается «Печалью» Цоя: «Дом стоит, свет горит, / Из окна видна даль. / Так откуда взялась печаль?»
Женщины в этом сценическом мире более сложны, чем мужчины, и более прорисованы. И Галина, изящно сыгранная Анжелой Белянской, — умная, с печатью благородства, из тех женщин, что держат спину прямой. И «контральто» Вера в исполнении Натальи Благих; Вера, которую при всей ее эротичной задиристости язык не повернется назвать распутной. И если в этом сценическом мире, где дом стоит, свет горит, может возникнуть Сольвейг, то это, безусловно, Сэсэг Хапсасова в роли Ирины, девушки первозданной чистоты, нелепой в своей наивности. Этакий князь Мышкин в платье, только по-буддийски созерцательный, променявший тихий бурятский поселок на мегаполис. «Зачем вы так?» — выдавливает из себя Ирина с ласковой улыбкой, обращаясь к Зилову, и столько в этом беззащитности…
— У нас в Бурятии нет оленей.
— А что? — спрашивает Зилов.
— Байкал, степь…
В одной сцене Ирина отвечает герою без слов — мощной звуковой волной, накрывающей зрителей, и в этом ощущается протест, боль, духовная сила, сострадание Зилову. Знакомиться с его друзьями в «Незабудку» Ирина является в восточном одеянии (художник по костюмам Сергей Агафонов): остроконечный шлем, шитое золотом облачение, бусы, ленты, огромные мохнатые крылья. Публике явлен апофеоз женской силы. Ирина — как бы воительница из комиксов-саг, способная мистически преодолевать пространства, сражаясь за чью-то душу. Или это ангел смерти, что вечно реет?..
В драматургии спектакля имеет значение разность цивилизаций, к которым принадлежат герои. Среди заведомо блеклых мужчин, под стать Зилову не вызывающих особой симпатии, выделяется официант Дима — Амаду Мамадаков. Цельный, внутренне весомый, Дима существует в иных координатах; и в подкрепление восточной внешности как знака отличия — техника горлового пения, который пользуется артист, пропевая иные реплики будто мантры.
Спектакль Панкова красив открыточной красотой и, как ни странно, герметичен, словно отделен от зрителя невидимой стеной. Порой, особенно в сценах с Ириной и Димой, энергетическая волна проникает сквозь нее протуберанцами, даже разрезает ее. Но все-таки смыслы воспринимаются в большей степени через визуальный ряд, нежели драматическую энергию. Противоречие еще и в том, что в спектакле, где линейная логика отменена в угоду мозаичности, зрителю почему-то приходится методично следовать по пьесе; и повествовательность действия порой избыточна — для того типа театра, где важны не хитросплетения сюжета, но ассоциации, выплески сознания. Зрителям, не читавшим пьесу, сложно разобраться, кто кому кем приходится. А идет спектакль почти четыре часа.
Смыслы эффектно визуализируются: тут в помощь и клиповый монтаж, и сложное построение мизансцен, и яркость цвета, и мастерство художника по свету Николая Суркова. Удивительно, как в таком сконденсированном театральном тексте, где зрителю, казалось бы, не остается пространства для домысливания, вдруг звучат чеховские мотивы, возникает чеховская интонация…
…Возникает, когда с течением действия выясняется, что оркестр (доселе затемненный) сидит в самой глубине сцены, за пределами павильона. Солнечные лучи пробиваются сквозь заляпанные стекла огромных окон — и видимое пространство как бы размывается, и в нем «монтируются» разные времена, лирически оживают призраки прошлого. И круглый абажур лампы преображается в полную луну, и диалог-воспоминание Зилова и Галины об их первых встречах кажется романтическим сном.
…Когда бесконечно льет дождь…
…Когда вновь выходят старухи, три вечные сестры, молчаливо соучаствующие героям…
…и запредельная тоска…
В финале гроб закрывают, ставят на алый запорожец и толкают вглубь. Зилов стоит на авансцене, растерянно и вопросительно повторяя: «Я жив, я жив»…
Но старухи упрямо толкают горбатого. Эй, тройка, куда катишь ты? Не дает ответа.
По тональности финал просветленный. Льет вечный дождь.