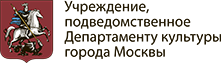Пресса
РАЗДВОЕНИЕ ТРОНА: «Борис Годунов» в Московском театре «ЛЕНКОМ» (пост. К.Богомолов) и Московском театре «Et Cetera» п/рук. А.А. Калягина (реж. П.Штайн).
Ирина Решетникова
"Диалог искусств" ,
20.02.2015
... ТРОН В ЗОЛОТЕ
Уже по интервью Петера Штайна можно было предположить, что его работа станет другим полюсом интерпретации пушкинского шедевра: «Я заинтересован в театре, в котором хорошо виден замысел литературного произведения, а не режиссерский. Мне интересны не режиссерские ухищрения, а актер». Однако, на практике режиссерская позиция, возможно, претерпела некоторые изменения, – труппа театра «Et Cetera» не смогла достичь требуемых исполнительских высот, и произошел вынужденный переакцент с внутренней игровой среды на внешнюю сторону постановки.
Предваряя дальнейшее размышление, необходимо упомянуть, что в 2010 году Штайн ставил оперу «Борис Годунов» в Metropolitan Opera, премьера которой была назначена на октябрь месяц, но в конце июля мэтр отказался от постановки из-за проволочек с американской рабочей визой, и заканчивал работу Stephen Wadsworth. Однако декорации Фердинанда Вегербауэра (постоянного соавтора Петера Штайна в почти 30-ти спектаклях) были уже готовы, и поэтому оставлены в спектакле.
Для части критики существование нью-йоркского пролога стало основанием для упреков режиссеру в том, что он, якобы, перенес прежний замысел в Москву, однако позволим не согласиться: ни психофизически, ни в материальном воплощении это недостижимо – у нашей реальности другая «глина». Петер Штайн создал оригинальный авторский спектакль, где он удивительно глубоко проник в основы подтекста пушкинской трагедии и увидел (можно даже отчасти употребить слово «прозрел») отечественную ментальную матрицу в русском понимании иконы, то есть в луче православия. Это абсолютно средневековая структура, плоская принципиально, лишенная европейского объема (вспомним работу Павла Флоренского «Иконостас») и каковую Штайн обозначил как трехчастную сцену, где в центре – как положено в церкви – находится центральная часть алтаря и два клироса — правый и левый (место, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы, хоры же — западный аналог клироса).
Итак, Штайн выстраивает исторический объем драмы и как храмовую архитектуру, где алтарь дан в обрамлении хоров и одновременно как вид на громадный складень-триптих, где на правой и левой сторонах развернулись частные внутренние и внешние события, а в центре — грандиозная фреска центральных этапов царства Бориса и восхождения Отрепьева. Это решение вызывает законное уважение.
Мэтр тщательно изучил архитектонику русского коллективного бессознательного и выстроил спектакль как здание, где сумма взоров выстраивается в монументальное построение идей. Восхитившись таким чувством русского космоса у Штайна, все же заметим, что Пушкин как поэт видел пространство пластически скорее не как храм, а как «страницу», как «часть простора», то есть скорее как иконную плоскость. В данном случае эта матричная икона у Пушкина четко обозначена – это житийная икона «Богоматерь с младенцем», а события, размещенные на этой же плоскости – клейма, на которых изображены события. Главное для такой матрицы – все это кипение евангельских событий происходит симультанно (одномоментно), без деления на хронологию очередности обозначенных сакральных событий. Именно эта сложная особенность мгновенного отражения и явлена в пушкинской поэзии и в его драме «Борис Годунов».
Штайн, будучи представителем европейского космоса, предпочитает видеть храм, и в этом плане чужд такому плоскостному «хаосу» восприятия пушкинской вселенной. Если у Пушкина эпизоды лишены важности – все одинаково важны, то Петер Штайн строит спектакль как пластическое нравоучение, где есть начало — это народная толпа на солеи перед иконостасом, каковой ограждает вход в алтарную глубину, где есть кульминация — это восхождение Бориса на трон и сам трон как форма гармонии красоты и силы, и трагический финал, — междоусобица, которая словно голосами хора разрушает объем государства.
Здесь еще слышна и мысль Ф.М. Достоевского – не стоит мировая гармония слезы одного убиенного ребенка. Эту мысль до Достоевского первым прочувствовал Пушкин.
Штайн это уловил. И придал облику русской истории античную ноту, которую он так чувствует. В этом его рифма с Пушкиным, который сам подобен античному святилищу в дебрях русского леса, и по сути, у Штайна та же панорама той русской истории, увиденной взором Пушкина, его поэтичность, которая придает каждой мизансцене картинность и возвышенность. Эта цепь остановленных мгновений наделяет нашу кровавую баню Смутного времени даже некой стройностью барельефа на Парфеноне. Статичные картины демонстрируют нам этот сгусток, плавное разворачивание исторического полотна, где тройное перемещение площадок рождает текучесть времени, движение Истории. Хотя фронтальный характер, лишившись глубины спиритуального фона, заметим, все же утомляет. Подчас чувствуется влияние Роберта Уилсона (схожая смена прекрасных визуальных картин) при отсутствии страсти оригинала – эти «отголоски» с холодком, с немецкой рациональностью. Лейтмотив развития подан в насыщенных благородных красках.
Цвет пронизан графикой от староцерковных рукописей к почти вневременному финалу — зарешеченному окну, за которым не меньшая тюрьма и ожидаемо проливаемая кровь. Здесь и весьма спорная сценическая деталь житийной прориси, где царевич Димитрий в одной из мизансцен оказывается помещенным будто в световое иконное клеймо/нимб и вознесенный вверх, здесь и общий визуальный ряд, четко фокусированный словно эмалевая шкатулка-ларчик с тремя делениями. Подобные частности умело вкрапляются в патетику назидания, послания от Штайна России. К концу спектакля визуальный нарратив достигает пластической вершины: превращения в мировоззренческую визуально-картинную матрицу, из сакрального пространства (иконный полиптих / киот) панорамно разворачиваясь в перспективу диорамы... где финальный штрих – черная стена с зарешеченным окном – как черный квадрат, плоскость, подчеркнуто вневременная. Все вместе в сумме посыла рождает некий абрис смерти.
Присутствие античного – греческого/римского – кода, кстати, очень уместно. С одной стороны наша вера пришла из Константинополя, а язык отечества оформлен греческими буквами, кроме того Штайн вошел в историю театра как замечательный интерпретатор античных трагедий, вспомним его «Орестею», где он показал нашему хаосу 1990-х годов образец истинной законности и буквально агитировал перенести античное право в нашу карикатурную государственность периода преображения социализма.
В спектакле «Борис Годунов» режиссер отчасти повторяет такой же тип послания, показывая нам красоту нашей истории даже при самых подлых обстоятельствах, почти льстит нашему воображению (что отчасти делал и А.С. Пушкин, введя в персонажи пьесы одного из рода Пушкиных). Подобная лесть для иностранца простительна. Не будем с ней вступать в спор. Красивы и монументально значимы такие сцены, как становление Бориса на царство, проходы окровавленного мальчика, переход границы между Польшей и Русским царством, зимний лес с павшей лошадью (эффект масштабной инсталляции), наконец, патетическая сцена смерти Годунова и пострижения умирающего царя в монахи. Все это говорит о глубоком изучении истории, даже уважении перед ее имперским безумием. И одновременно все пронизано пиететом перед русским поэтом, который имеет право любить свой «фатерланд». (Как изобретательно и смешно сделана сцена в корчме).
Особое внимание уделено толпе, пониманию ее роли и природе влияния. У Штайна толпа подана как пластическое воплощение чего-то темного неуправляемого, инерционного и иррационального. Оно лишено всяких оценок. Не будем называть лаву слишком уж горячей, внушает режиссер-философ.
В работе К.Богомолова народ нам представлен как иллюстрация, как татуировка, как всего лишь текстовая характеристика («быдло»), и этот феномен «тату» порождает ситуацию навязанной оценки, где зритель лишен права решать, где ситуация тут же мстит отключением, перед нами вдруг возникает мстительная фикция, тотальная пустота, виртуальная среда – не люди, а играющие буквы, нечто вроде озвученной в микрофон внутренней речи режиссера, что-то отсутствующее, хотя и лукаво, изобретательно «переправляющее» указующий вектор на зрительскую аудиторию. Что ж, имитация объективности оборачивается имитацией суждения. В итоге в ленкомовской постановке при отсутствии «массы» ее руководитель (Борис Годунов) становится только лишь присутствующим фантомом, а отсутствующий «люд» – отстраненным и безразличным – «отсутствующим» присутствием.
Штайн, наоборот, не прячется за лейблами и татушками. «Столкновение старого и нового времени, столкновение цивилизаций, столкновение народа и власти - базовая проблема для всех стран и всех времен – будь то Римская империя, сталинская эпоха или сегодняшний мир. Ты мечтаешь о новой власти – она приходит и порождает новых опричников», – размышляет режиссер. Опричник тот же штурмовик. Штайн не зацикливается с монотонностью жужжания на нашей истории, он помнит и свою, германскую.
Это проблема «для всех». Эпизод, вызывающий вопросы, это сцена с юродивым. Увидев идущего царя, юродивый уступает ему дорогу (!?) и, по сути, бросает свои упреки царю снизу вверх, как простой нищий. Здесь налицо непонимание этой институции: русский юродивый сам царь, он наше отечественное уродливое выражение оппозиции, наш аналог мнений, «уличный парламент» той поры, скрученный в феномене безапелляционного шутовства: нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит... эти страшные слова сродни тем, которые Иегова начертал на стене на пиру библейского Валтасара: мене, текел, фарос... царство твое взвешено, подсчитано, найдено лёгким и ему конец. Устами юродивого говорит сам Бог. Его слова слышит вся Москва.
Встречая юродивого на пути, даже Иван Грозный в душе обмирал, а когда 88-летний Василий Блаженный заболел, как гласит легенда, он пришел к нему со всем семейством. Недаром напротив Кремля Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, также называем Храмом Василия Блаженного, это грозное напоминание царям о народной воле, монумент, сравнимый скажем с памятником протестанту Лютеру в Ватикане (если бы он там находился)... вся сцена с юродивым, который на деле до обморока пугает Бориса, выглядит фальшиво, да и детишки колотят героя без средневековой злости, нарочито смешно.
Бориса в спектакле сыграл актер Театра им. Евгения Вахтангова Владимир Симонов, а Григория Отрепьева – Сергей Давыдов. Это две роли, к сожалению, единственные (прибавим еще Марину Дубкову в роли Мнишек), которые можно с некоторой натяжкой считать удавшимися. Владимир Симонов оказавшись в парадоксальной ситуации играть одновременно «и короля, и свиту», попал в вакуум. Более выигрышная позиция у Сергея Давыдова, Штайн прекрасно чувствует европейское начало, и потому Польша «окружила» самозванца более ярко и убедительно, чем бояре своего государя. Роль Мнишек дана с позиций почти феминистских и ее превосходство бесспорно, любовь ничто против карьеры, а говорить правду – это заведомый проигрыш.
Сложности с актерскими работами не могут заслонить режиссерское мастерство, создающее переплет бытия, установку на русскую «лоскутность» и многослойность. Этого эффекта он добивается словно движением «пешек» по полю спектакля всего лишь за счет ненавязчивой игры костюмопластики разных эпох – мозаичности сплетения разностилистических костюмов – военного, исторического, стилизованного, бытового, современного (художник по костюмам – Анна-Мария Хайнрайх). Режиссер возводит «лоскут» в множественную степень, сдвигая и переплетая панорамы времени. В ленкомовском же спектакле современные костюмы героев парадоксальным образом катастрофически предельно сужают «географию», превращая принципиально разные места действия у Пушкина в гомогенную Московию. Что ж, Штайн по-своему убедительно прочитал «Бориса Годунова» – порой с нескончаемыми длиннотами, иногда дотошно и педантично – русская история движется по волнам хаоса. А финалом поэтапного движения постановки от солнечного пролога к катарсису стала черная стена «квадрата Малевича», которая модельно структурировала финал, где убивают наследника, и наборное стекло в супрематическом стиле окропляется кровью.
Несколько раз забрезжит политический акцент, как в мизансцене с патриархом, напомнившей расширенное заседание Политбюро. Но по этому пути мэтр принципиально не пошел, современные аллюзии его явно не интересуют. В этом онтологическая разница двух спектаклей московского сезона. В ленкомовской постановке Россия подана долгоиграющей пластинкой, которая вечно играет одни и те же бытийные коды, упрямо настаивая на своем. Штайна повторяемость русской истории не интересует изначально, он исходит, из образно говоря, «неправильной правоты истории», в этом ракурсе Россия его отчасти интересует и как загадка немецкого поражения. Почему красота шляхетства сгинула в русской бездне? Он по-европейски озабочен и одновременно восхищается этой роковой загадкой.
Эта загадка занимала и А.С. Пушкина, который писал в письме к П.Я. Чаадаеву... что касается нашей исторической ничтожности то, «(положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?»