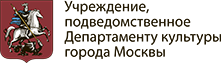Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
«Ничего не известно наверняка!»
Марина Токарева
Новая газета ,
24.10.2018
Прологом Года театра режиссура обстоятельств сделала «Театральное дело». Его начнут рассматривать в открытом процессе 25 октября. Адвокаты подсудимых прогнозируют срок пять-шесть месяцев. Это значит, что суд будет идти своим чередом, а Год театра своим: выморочная рифма. Она, впрочем, описывает устройство нынешней действительности.
Внезапные трагедии и катастрофы, мутные страсти дня, ежедневные негодяйства отдельных людей и целых государств — повседневность. Она теснит театр, заставляет его заново искать язык, на котором нужно говорить с людьми.
Казалось бы, неровный скачущий пульс реальности должен подчинять внутренние ритмы постановщиков, навязывать режиссеру суету и смятение дня. Но режиссеры откликаются повышенной сосредоточенностью, высоким градусом художественной собранности. Может, поэтому и возникают спектакли, вбирающие мир за границами сюжета.
«Видимость и действительность не сходятся, — сказал когда-то о Гамлете Пастернак, — и их разделяет пропасть». Наше время поставило эту прозрачную мысль на колеса оптового производства, подкрепило нанотехнологиями, расширило до неустранимого повреждения.
Об этом — неспособности увидеть и понять вещи как они есть — остро и тревожно размышляют театральные режиссеры старшего поколения.
Казалось бы, бесконечно далекий от наших дней и обстоятельств спектакль поставил на сцене Et cetera Адольф Шапиро. Называется «Это так, если вам так кажется…». Картонные персонажи Пиранделло, взнервленные тайнами чужой жизни; сюжет, построенный на абсурдных иллюзиях; сугубо частная история, случившаяся в семье провинциального чиновника, крошечного винтика итальянской государственной машины? Чем она связана с быстрым, жестким, все чаще беспощадным ритмом сегодняшнего дня?
Белая сцена. Сценограф и автор костюмов Мария Трегубова выстроила сияющую, праздничную, залитую светом среду — в нарядной коробке с наклонным белым полом черный рояль (ближе к финалу выкатят белый), черные венские стулья, вертикальные зеркальные панели, на белой стене слева — пять черно-белых фотографий Пиранделло. Костюмы оркестрованы с избыточной оперной пышностью. Изысканная декоративность героев представления призвана оторвать их от обыденности, как музыка Перголези. В этом сиянии, где кто-то делает экзерсисы, кто-то принимает статуарные позы, бушуют, однако, вполне бытовые страсти — любопытство и злоязычие.
Все дело в том, что «ничего не известно наверняка»! Загадочный новый сосед, который необъяснимо много времени проводит с тещей, несуществующая или существующая жена соседа, его стремление избегать людей и знакомств, его теща, то ли безумная, то ли вполне нормальная. Толпа жадно любопытствующих сочувствующих, слепо шарахающаяся от одной версии к другой — сумасшествие, грех, заблуждение, — но ничего не передает голый пересказ сюжета. Все дело в незримой работе постановщика, в том, как тонко, с какой вальсирующей легкостью все это сделано, как выверена возникающая на сцене пульсация драмы, то и дело готовая сорваться в трагикомедию.
Поначалу кажется: много шума из ничего — немыслимые бури и усилия ради того, чтобы не оскорбить чьи-то чувства. Ведь «оскорбление чувств» на языке современности уже судебный термин, нагруженный в общественном обиходе массой оттенков ернического негативизма. Но через пятнадцать минут спектакля поначалу слегка недоумевающим залом овладевает радость театрального события, творящегося на глазах.
Три артиста держат невидимо висящее в воздухе полотно действия — Сергей Дрейден, Антон Пахомов и Ирина Денисова.
Дрейден, моральный центр происходящего. Его Ламберто Лаудизи, странный дядюшка, главный комментатор таинственной ситуации, во фраке, женской шляпе с лентами и в кроссовках, старый клоун, чей ироничный голос звучит то нотами здравого смысла, то жестокого абсурда.
Ирина Денисова, синьора Фрола, центр эмоциональный. Вытянутые вперед в заклинающем, молящем жесте руки в перчатках, черная шляпа на седых волосах, неуверенная семенящая походка — теща, боящаяся оскорбить зятя, уверенного, что он женат второй раз, а его первая жена умерла, в то время как он женат все на той же женщине. Что-то от беженки, вынужденной чужестранки есть в облике этой женщины без возраста, в которой проглядывает целый хоровод масок — от Пьеро до Пульчинеллы. Деликатность на грани обморока и отчаяние на грани погибели — сбивчивую, нервную кардиограмму чувств «снимает» с текста актриса.
Белое лицо человека, застегнутого внутренне и внешне на все пуговицы, человека, словно сошедшего с полотна Магритта, в глазах которого пляшет страх и отчаяние, а в речах ярость переходит в нежность. Это он, центр абсурда, таинственный секретарь префекта синьор Понца, зять, стремящийся пощадить свою тещу, которая якобы сошла с ума, потому что не в силах принять смерть дочери. Антон Пахомов выводит на сцену неприятного, почти отталкивающего человека, антигероя, в которого хочется вглядеться подробнее, понять его сложное устройство. Каждый из них с немыслимым жаром заверяет собравшихся: есть только его правда, и только она — истинна. Но главное здесь — мольба о пощаде. О том, чтобы их семейную тайну оставили нетронутой, чтобы не разрушали хрупкое взаимное равновесие. Конечно, именно оно будет сокрушено в первую очередь.
В конечном итоге в финале, когда из сумрака является невидимая, закутанная до глаз таинственная фигура, та самая жена и дочь, уже не важно, что во всем этом абсурде правда, важен вихрь сложных чувств, что гуляет по сцене.
Некогда Пиранделло в очередной своей странной пьесе создал апологию релятивизма, завел своих героев в лабиринт иллюстрации относительности и условности чего бы то ни было. Шапиро уверенной рукой в бархатной перчатке извлекает из путаной интриги одного из самых больших мистификаторов мировой драматургии вещь волшебной театральности и объемной, отточенной актуальности.
Скрыто отвечая на вопрос, в каких сегодня отношениях театр и жизнь и что следует считать современностью, Шапиро строит яркую художественную метафору происходящего в большом мире — фейковых истин, пандемии лжи, морового поветрия дезинформации. Тотального заблуждения — насильственного, навязанного или добровольного. Он рассказывает о реальности, в которой нет реальных опор, где зыбки и перемешаны до неразличимого вымысел и правда, сплетня и факт. И делает это с виртуозной элегантностью, пожалуй, даже с особым сценическим щегольством. Словно отбросив все задачи, кроме сценических, наконец предался любимой игре: в театр ради познания, ради понимания. И возник спектакль, в котором дерзкая театральность становится огромной лупой для современности.
А в финале, когда странная парочка, зять и теща, измученные своей неистовой любовью к третьему лицу, поддерживая друг друга, исчезают в глубине событий, всем прочим остается только шлейф ошеломляющей подлинности чувства. Самого эфемерного, самого прочного основания человеческих отношений.
Фото - Михаил Гутерман
Внезапные трагедии и катастрофы, мутные страсти дня, ежедневные негодяйства отдельных людей и целых государств — повседневность. Она теснит театр, заставляет его заново искать язык, на котором нужно говорить с людьми.
Казалось бы, неровный скачущий пульс реальности должен подчинять внутренние ритмы постановщиков, навязывать режиссеру суету и смятение дня. Но режиссеры откликаются повышенной сосредоточенностью, высоким градусом художественной собранности. Может, поэтому и возникают спектакли, вбирающие мир за границами сюжета.
«Видимость и действительность не сходятся, — сказал когда-то о Гамлете Пастернак, — и их разделяет пропасть». Наше время поставило эту прозрачную мысль на колеса оптового производства, подкрепило нанотехнологиями, расширило до неустранимого повреждения.
Об этом — неспособности увидеть и понять вещи как они есть — остро и тревожно размышляют театральные режиссеры старшего поколения.
Казалось бы, бесконечно далекий от наших дней и обстоятельств спектакль поставил на сцене Et cetera Адольф Шапиро. Называется «Это так, если вам так кажется…». Картонные персонажи Пиранделло, взнервленные тайнами чужой жизни; сюжет, построенный на абсурдных иллюзиях; сугубо частная история, случившаяся в семье провинциального чиновника, крошечного винтика итальянской государственной машины? Чем она связана с быстрым, жестким, все чаще беспощадным ритмом сегодняшнего дня?
Белая сцена. Сценограф и автор костюмов Мария Трегубова выстроила сияющую, праздничную, залитую светом среду — в нарядной коробке с наклонным белым полом черный рояль (ближе к финалу выкатят белый), черные венские стулья, вертикальные зеркальные панели, на белой стене слева — пять черно-белых фотографий Пиранделло. Костюмы оркестрованы с избыточной оперной пышностью. Изысканная декоративность героев представления призвана оторвать их от обыденности, как музыка Перголези. В этом сиянии, где кто-то делает экзерсисы, кто-то принимает статуарные позы, бушуют, однако, вполне бытовые страсти — любопытство и злоязычие.
Все дело в том, что «ничего не известно наверняка»! Загадочный новый сосед, который необъяснимо много времени проводит с тещей, несуществующая или существующая жена соседа, его стремление избегать людей и знакомств, его теща, то ли безумная, то ли вполне нормальная. Толпа жадно любопытствующих сочувствующих, слепо шарахающаяся от одной версии к другой — сумасшествие, грех, заблуждение, — но ничего не передает голый пересказ сюжета. Все дело в незримой работе постановщика, в том, как тонко, с какой вальсирующей легкостью все это сделано, как выверена возникающая на сцене пульсация драмы, то и дело готовая сорваться в трагикомедию.
Поначалу кажется: много шума из ничего — немыслимые бури и усилия ради того, чтобы не оскорбить чьи-то чувства. Ведь «оскорбление чувств» на языке современности уже судебный термин, нагруженный в общественном обиходе массой оттенков ернического негативизма. Но через пятнадцать минут спектакля поначалу слегка недоумевающим залом овладевает радость театрального события, творящегося на глазах.
Три артиста держат невидимо висящее в воздухе полотно действия — Сергей Дрейден, Антон Пахомов и Ирина Денисова.
Дрейден, моральный центр происходящего. Его Ламберто Лаудизи, странный дядюшка, главный комментатор таинственной ситуации, во фраке, женской шляпе с лентами и в кроссовках, старый клоун, чей ироничный голос звучит то нотами здравого смысла, то жестокого абсурда.
Ирина Денисова, синьора Фрола, центр эмоциональный. Вытянутые вперед в заклинающем, молящем жесте руки в перчатках, черная шляпа на седых волосах, неуверенная семенящая походка — теща, боящаяся оскорбить зятя, уверенного, что он женат второй раз, а его первая жена умерла, в то время как он женат все на той же женщине. Что-то от беженки, вынужденной чужестранки есть в облике этой женщины без возраста, в которой проглядывает целый хоровод масок — от Пьеро до Пульчинеллы. Деликатность на грани обморока и отчаяние на грани погибели — сбивчивую, нервную кардиограмму чувств «снимает» с текста актриса.
Белое лицо человека, застегнутого внутренне и внешне на все пуговицы, человека, словно сошедшего с полотна Магритта, в глазах которого пляшет страх и отчаяние, а в речах ярость переходит в нежность. Это он, центр абсурда, таинственный секретарь префекта синьор Понца, зять, стремящийся пощадить свою тещу, которая якобы сошла с ума, потому что не в силах принять смерть дочери. Антон Пахомов выводит на сцену неприятного, почти отталкивающего человека, антигероя, в которого хочется вглядеться подробнее, понять его сложное устройство. Каждый из них с немыслимым жаром заверяет собравшихся: есть только его правда, и только она — истинна. Но главное здесь — мольба о пощаде. О том, чтобы их семейную тайну оставили нетронутой, чтобы не разрушали хрупкое взаимное равновесие. Конечно, именно оно будет сокрушено в первую очередь.
В конечном итоге в финале, когда из сумрака является невидимая, закутанная до глаз таинственная фигура, та самая жена и дочь, уже не важно, что во всем этом абсурде правда, важен вихрь сложных чувств, что гуляет по сцене.
Некогда Пиранделло в очередной своей странной пьесе создал апологию релятивизма, завел своих героев в лабиринт иллюстрации относительности и условности чего бы то ни было. Шапиро уверенной рукой в бархатной перчатке извлекает из путаной интриги одного из самых больших мистификаторов мировой драматургии вещь волшебной театральности и объемной, отточенной актуальности.
Скрыто отвечая на вопрос, в каких сегодня отношениях театр и жизнь и что следует считать современностью, Шапиро строит яркую художественную метафору происходящего в большом мире — фейковых истин, пандемии лжи, морового поветрия дезинформации. Тотального заблуждения — насильственного, навязанного или добровольного. Он рассказывает о реальности, в которой нет реальных опор, где зыбки и перемешаны до неразличимого вымысел и правда, сплетня и факт. И делает это с виртуозной элегантностью, пожалуй, даже с особым сценическим щегольством. Словно отбросив все задачи, кроме сценических, наконец предался любимой игре: в театр ради познания, ради понимания. И возник спектакль, в котором дерзкая театральность становится огромной лупой для современности.
А в финале, когда странная парочка, зять и теща, измученные своей неистовой любовью к третьему лицу, поддерживая друг друга, исчезают в глубине событий, всем прочим остается только шлейф ошеломляющей подлинности чувства. Самого эфемерного, самого прочного основания человеческих отношений.
Фото - Михаил Гутерман