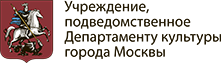Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Магнитофон и песня без слов
Наталия Каминская
"Культура" ,
14.11.2002
«Последняя запись Крэппа» в “Et Cetera”Режиссер Стуруа и драматург Беккет на первый взгляд не кажутся удачной парой. Стуруа в театральном сознании все еще пребывает адептом дерзкой, свободной игры, емкой метафоры, большого, густо населенного персонажами пространства. Классик театра абсурда, Беккет, казалось бы, взыскует к иным масштабам и другим темпераментам. Но у себя в Театре им. Ш. Руставели Стуруа только что поставил «В ожидании Годо» и сразу — в «Et Сetera» к Калягину, разглядывать человека, жизнь которого состоит исключительно из прослушивания собственных дневниковых откровений, записанных на магнитофонную ленту.Стоит еще раз расписаться в собственной невнимательности. «Масштабный» Стуруа уже поставил пессимистичного, тихого «Шейлока», уже превратил комедию Гольдони о синьоре Тодеро в горькую притчу о вымороченной одинокой жизни, уже сочинил в грузинской версии метафизического «Гамлета».А Калягину после дерзко нехрестоматийного Дон Кихота и клоунского папаши Убю неужто понадобилось нырять в мрачные бездны крэпповского аутизма? Впрочем, не нам знать, что кому и зачем понадобилось. Пьесу режиссер сократил до одной и самой важной кассеты, лейтмотив которой: «Мне 39 лет». Где-то сказано, что порог 40-летия особо трагичен именно для мужчин. На сцене «Et Сetera» — берлога героя, которая уже не напоминает жилище, а являет собой свалку отживших свой век предметов, имеющих цвет золы (художник Г. Алекси-Месхишвили). От той заветной кассеты, где калягинский голос говорит о любви, отсечено целых тридцать лет. Этот провал важен. Нам предлагают не копаться в прошлом, но совместить последнюю попытку обрести полноценную жизнь с итогом, в котором сама жизнь уже находится на стадии лишь физических отправлений. Мы услышим голос человека, находящегося на сцене, только через десять минут от начала действия. И сразу включится кассета. Тембровый контраст между Калягиным говорящим и Калягиным, записанным на пленку, страшен. Этот контраст и составляет в спектакле сквозное действие не двигающейся никуда пьесы. Как хорошо, что в спектакле нет других кассет! Насытившееся абсурдом и постабсурдом ухо нынешнего зрителя даже магнитофонный рефрен Крэппа о женщине, которая могла очеловечить его жизнь, воспринимает сентиментальным трюизмом. Классик театра абсурда, при всей его жесткой отчужденности, для нас теперь — что-то вроде Карамзина для читателей Гончарова и Достоевского. Нам до беккетовской былой свежести — где-то минус пятьдесят лет. Сочинение Стуруа опирается более всего на сенсорное восприятие. Музыка Г. Канчели будто дергает героя, возвращая на время из механического небытия. На землистом фоне свалки лишь стол с заветным магнитофоном вспыхивает теплым кровавым пятном. Голос героя на сцене вступает в диалог с тем, что записан на пленку. Густые, чувственные голосовые модуляции одного Калягина пытаются «общаться» с монотонным, немощным писком другого. Тот Калягин, что бродит по сцене, — самый впечатляющий элемент общего утильсырья. Человек-рухлядь — страшное и одновременно щемящее свидетельство той жизни, что, в сущности, закончена была много лет назад.Однако самые сильные в спектакле — те десять минут, когда еще нет текста, когда ни прошлое, ни настоящее еще не озвучено. Собственно, вся суть происходящего и сыграна гениально в этот самый отрезок времени, остальное — только вариация темы. Бесформенный, драный мешок вздрагивает на подстилке от нездорового сна и, оказавшись человеческим существом, начинает «жить». Эти последовательные, затверженные до автоматизма эволюции: за угол по утренней нужде, к ведру с водой и нечистому полотенцу — в целях гигиены, ногами — в подобие ботинок, на шею — засаленный прообраз шарфа etc — грандиозная трагикомическая пантомима.Партитура этой «жизнеутверждающей» прелюдии прописана с филигранным мастерством. За эти минуты уже успеваешь сглотнуть комок восторга и утереть непрошеную слезу сострадания. И даже представить себе двух круглых, упитанных и, в сущности, жизнерадостных мужчин — Стуруа и Калягина, — со вкусом сочиняющих каждый жест и шажок этого безмолвного шедевра.