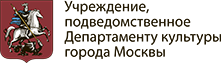09.05.2025
Мемуары артистов-ветеранов читает Александр Калягин
портал "Культура Москвы"
08.05.2025
Александр Калягин: "День Победы для меня – святой праздник"
Мир 24
31.03.2025
Анна Артамонова: "На фронте жизнь ощущается острее"
Татьяна Алексеева ,
Театральная афиша столицы
05.02.2025
"Et Cetera" — мой театральный дом
Татьяна Алексеева ,
Театральная афиша столицы
Пресса
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001
2000
1999
Рукописи горят
Ольга Галахова
журнал "Станиславский" ,
22.10.2007
В Театре « Et Cetera » в середине декабря 2007 года состоится премьера спектакля по культовому для поколения 6о-х годов научно-фантастическому роману Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В этом произведении американского фантаста воинственные пожарные преследуют всех, кто с риском для собственной жизни отваживается хранить у себя книги. Если виновников находят, книги незамедлительно сжигают. В финале цивилизация охвачена мировым пожаром. Что уцелеет в этой катастрофе — большой вопрос Рея Брэдбери. Известный режиссер Адольф Шапиро будет ставить, а не менее известный художник Борис Заборов — оформлять этот спектакль. Идея Адольфа Шапиро обратиться к Брэдбери, который в середине прошлого века увидел в развитии цивилизации угрозу культуре и книге как таковой, нашла отклик в душе парижского коллеги. Заборов принадлежит тому поколению художников, которые продолжают испытывать священный трепет перед чудом человечества — книгой, несмотря, а может, и благодаря тому, что значительную часть жизни он отдал в СССР книжной иллюстрации. Но этот художник, считающийся одним из самых успешных среди тех, кто эмигрировал в восьмидесятые, не видит противостояния между словом и изображением, вербальным и визуальным, как, впрочем, и режиссер классической выучки Адольф Шапиро. Этих двух мастеров заполучить театру « Et Cetera » было не так-то просто. Одно трагическое обстоятельство спровоцировало их к встрече на территории театра. Оба дружили с Давидом Боровским, и, когда не стало великого сценографа, Борис Заборов, как утверждает Адольф Шапиро, сказал: «Если ты что-нибудь придумаешь, я тебе сделаю спектакль». Правда, Заборов утверждает, что так он сказать не мог. Но работа началась.Нужна ли книга цивилизации или в скором времени ее заменит электронная версия и слово «библиотека» канет в прошлое, с этого вопроса начался диалог.Борис Заборов. Я по природе своей вообще-то не оптимист и чувствую угрозу книге как таковой. Возможно, поэтому уже много лет назад мне пришла мысль начать создавать книги, которые не горят, сделанные из бронзы. Их невозможно полистать, но в них заключена человеческая культура и мысль. Думаю, эти объекты могут стать своеобразной библиотекой, хранилищем, которое представляет собой какую-то умершую, а затем откопанную культуру. Книга со временем может исчезнуть. Во всяком случае, как объект культуры она уже исчезает, являясь все больше и больше предметом массовой культуры. Хотя мне зачастую возражают: «Зайди в любой книжный магазин и увидишь, что это совсем не так». Да, прилавки завалены, но все равно меня не покидает ощущение гибельности происходящего, поэтому я с удовольствием занимаюсь такими изданиями, которые выпускаются небольшими тиражами. В Италии, где мне довелось работать, книги изготовляются вручную старым способом на бумаге ручной выделки с оригинальными офортами. Участие в такого рода процессе книгоиздательства — мое личное сопротивление масскульту.Адольф Шапиро. Кажется, книга, как уже стал театр, окажется объектом для культурной элиты. Театр прошел путь от базарной площади до искусства, если можно так сказать, предназначенного элитным группам. Он стал элитарным массовым искусством. То же случится с книгой.Б.З. А кто будет издавать книги для культурной элиты?А.Ш. Сама элита.Б.З. Все меньше и меньше издателей, которые рискуют выпускать такие элитарные книги. Более того, появились книги, которые выполняют лишь декоративную функцию, они предназначены не для чтения, а для украшения интерьеров. Я видел такие библиотеки. Последнюю «книгу, которая не горит», я делал совместно с То-нино Гуэрра. Он написал несколько поэтических текстов, мною были сделаны офорты, которые напрямую не связывались с содержанием стихов. Однако мое художническое предчувствие подсказывает — книга исчезнет. В недалеком будущем вижу не библиотеку, а в электронном виде конспекты книг. Свифт, умещенный в двадцать пять страниц, — я видел и такое.А.Ш. Да, но есть и другое: к примеру, электронные библиотеки в интернете, где можно найти почти все изданное, да еще в разных переводах.Б.З. Допустим, но человек лишен культа чтения книги, процесса, когда ты перелистываешь страницы, откладываешь том, потом возвращаешься к книге, перечитываешь. Почему я согласился работать над спектаклем: это ложится на мое понимание проблемы. Хотя в прозе Брэдбери я вижу много больше, чем только вопросы о книге.А.Ш. Разумеется, он видит угрозу существования культуры как таковой. Кстати, Брэдбери многое предвидел. Его слова, фантастика — это реальность, доведенная до абсурда, имеют свое прямое подтверждение в жизни. То, что казалось абсурдом, сейчас — повседневная реальность. Я вообще-то фантастикой не увлекался никогда. А к нашему спектаклю пришел случайно. Мне посоветовали перечитать «451 градус по Фаренгейту». Я перечитал и понял, что это надо ставить. Один из выходов — обратиться к Брэдбери, поскольку его предвидение будущего — результат анализа развития цивилизации. Мне близка его тревога ежедневно надвигающейся катастрофы. Такое ощущение нагоняет тебякаждый день, когда, к примеру, ты включаешь телевизор. Как-то, ставя спектакль в Израиле, я случайно включил телевизор. На израильском канале шла передача «Как стать миллионером». Переключил на российский канал — и там идет «Как стать миллионером». Ну вас к черту! Переключаю на какой-то арабский канал — там сидят люди в белых одеждах и играют. И это вдруг стало для меня образом мира.Б.З . То, о чем ты говоришь, к фантастике имеет мало отношения. Это реальная жизнь. В 70 - e годы, когда мы еще практически не знали телевизионного экрана, подобное могло бы нам казаться фантастическим. Но сегодня это — абсолютнейшая реальность. По-моему, самое существенное в происходящем — очевидная попытка исключить человека из реально существующей природы, в которой он живет. Очевидна тенденция все больше и больше его замкнуть в искусственно созданный мир. Сидит одинокая женщина, а вокруг нее вместо четырех стен висят экраны телевизоров. Такая метафора мне близка. Оттого идея четвертой стены кажется мне все больше и больше точным образом предстоящего спектакля.А.Ш. Оруэлл моделировал будущее, имея в виду определенную тоталитарную систему. А сейчас речь идет о чем-то совсем другом.Б.З. О тоталитарном мире. Помнишь, я тебе позвонил и сказал, что Брэдбери чрезмерно идеологичен, поскольку актуальная информационная культура в его романе заявлена откровенно, прямолинейно.А.Ш. Перечитав Брэдбери, я задался вопросом: а как долго будем молчать? Почему театр стал такой асоциальный? Почему, в конце концов, при советской власти считалось хорошим тоном ставить спектакли о якобы социальных проблемах, а сейчас дурно? Театр тоже стал жертвой этого нашествия массовой культуры и того, что социологи называют обществом потребления, а зритель выступает в роли покупателя, потребителя. И у меня возникло желание прервать молчание.Б.З. Мы с тобой занимаемся разными жанрами искусства. Я один на один имею дело с холстом. Вот почему я всегда избегал всякой идеологии, избавиться от которой в искусстве, видимо, невозможно, все равно найдутся люди, которые так или иначе постараются интерпретировать тебя. Причем театр втягивается в это в значительно большей степени, чем живопись. Ты так не считаешь?А.Ш. Твое стремление, как и многих из нас, избежать идеологии естественно. Мы были и есть жертвы «большой идеологии», которая заставляла нас избегать ее как таковой, в этом, считали мы, есть форма протеста против идеологии.Б.З. Возможно. Хотя абсолютного отсутствия идеологии не бывает.А.Ш. В своих первоначальных эскизах ты расположил пожарных сразу вверху, над миром, над площадкой. И это пространственное решение, в котором заложена метафора. Есть блюстители порядка, хозяева жизни, управляющие миром. Я понимаю твои опасения в крене публицистичности, поскольку это есть в тексте. С другой стороны, то, что для одного публицистика, для другого — кровь.Б.З. Мне бы хотелось, чтобы сценографическая конструкция вызывала ассоциацию с книгами. Но я бы не хотел, чтобы это прочитывалось совершенно откровенно. Без дидактики.А.Ш. Хорошо бы... Ведь Брэдбери — глубоко лирический писатель. Его главный герой Монтег из недочеловека превращается в человека. Есть и другой персонаж, который кончает с собой, потому что погубил в себе человека. Во всяком случае, его книга не написана для протеста: это — душевный крик, боль, предупреждение.Брэдбери замечательно описывает механику, при помощи которой у человека возникает иллюзия, что он участвует в процессе и развивается, а на самом деле стоит на месте. Среди множества его фраз больше всего меня взволновало то, что человек окутывается массой ненужной и потому опасной информации. Включаю радио. Путин встречается с Бушем. Мягко сообщают — остались разногласия. Скажите, почему мне нужно знать, что они рыбу ловили. Я хочу знать: что там произошло? Из репортажа ничего не понятно, а у человека осталось впечатление, что он информирован. Ведь про рыбалку знает! Внедряется техника отвлечения от смысла, от понимания реального процесса... Брэдбери очень остро чувствует мир на грани катастрофы.Б.З. И вся надежда остается на тоненький культурный слой, который являет собой тех, кто является хранителями огня в очаге. Может быть, в этом тонком слое когда-нибудь вырастут другие поколения. Ибо если этот слой истончится до полного исчезновения, то тогда надо признать — Брэдбери прав. Оптимизма мало.А.Ш. Бредбери предвидел уничтожение потребности в чтении, в книге. Воспитываются стереотипы мышления. Какая основная задача массовой культуры? Именно такая.Б.З. Расскажу маленький сюжет. Помню, когда наступила некая либерализация в советском обществе, в Союзе художников в Минске, где я жил, партийные власти предложили организовать выставку без жюри, вообще без всякого контроля. Каждый член Союза на свой выбор имел право выставить по две работы. Это была самая страшная выставка, которую я в своей жизни видел. В течение семидесяти лет они настолько вживили в сознание людей страх и определенный уровень возможно допустимого, что внутренний цензор оказался куда более жестким и правоверным, чем все худсоветы.А.Ш. Знаешь, есть такая хитрость. Сейчас, говоря о советском времени, те люди, которые были наиболее компромиссны по отношению к власти или были душой и делами слитны с ней, всячески хотят представить прошлое как невозможность выбора. Всегда существовал выбор. Другое дело, что тогда необходимо было от чего-то отказаться. Я был руководителем театра в Риге. Когда на меня насели и стали угрожать, что заберут театр, если не вступлю в партию, я не слишком долго сомневался, как надо поступить. Может быть, поэтому они и махнули на меня рукой, — оставили театр?Б.З. Интересно другое. Группа нонконформистов, которая возникла в шестидесятые в изобразительном искусстве, в основном это мои коллеги, мои товарищи, тогда на самом деле рисковала многим, в частности, невозможностью выживать. Мы все уходили в книжную графику. Там можно было спрятаться за авторский текст. Сегодня, когда мы анализируем советский период искусства, совершенно очевидно, что книжные иллюстраторы - это был самый цельный фланг. Но что произошло сегодня. Эти художники вышли на передний план, и они продолжают ту же политику, которая была у коммунистической идеологии. Захватили сейчас все пространство и диктуют условия. Проникнуть чужеродному художнику в эту систему так же тяжело, как было трудно им в свое время.А.Ш. Наиболее гонимые режиссеры, которые в свое время не имели работы, сейчас в свои театры не приглашают никого со стороны. Реванш берут, что ли?Б.З. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Через пять лет после приезда во Францию меня пригласили преподавать в Парижскую академию художеств. Для меня это было очень важно с экономической точки зрения. Посмотрев на все, что там происходит, я пришел домой и сказал: «Не хочу быть соучастником преступления». Сын моих знакомых все-таки решил туда поступать. Я их отговаривал. Но семья меня не услышала. И вот он вышел на диплом в этом году и оказался единственным, кто диплом не защитил. Профессура сказала: «Ну что ж вы тут рисуете нам карандашом и кисточкой по холсту?» А защитили диплом люди, которые раскрашивали стулья, то есть своя тоталитарная идеология. Уезжая туда, я думал, что попадаю в свободное (во всяком случае, в искусстве), антиидеологическое общество. Оказалось, идеология такая же жесткая, суровая, а может, и пострашнее. Кстати, когда состоялась моя выставка в Третьяковке, меня особо тронули молодые художники. Они выражали удивление, поскольку стало считаться, что ремесло для мастерства не обязательно. И они правы. Но оказывается — не так. У молодых художников есть потребность овладевать ремеслом, и в этом залог, быть может, пусть в каком-то новом ракурсе развития, продолжение извечного принципа изобразительного искусства.А.Ш. По тому, что ты говоришь, ты не имеешь права быть пессимистом, как впрочем и я. Сейчас приехал из Петербурга, ко мне подходят незнакомые люди, спрашивают: «Будете проводить лабораторию? Как к вам попасть?» Я, кстати, последние два года проводил лаборатории режиссеров, приезжающих в основном из провинции. Это такая радость. Люди хотят учиться. Поэтому так высоко ценю то, что делает Петр Фоменко, Сергей Женовач, потому что создаются новые группы людей. Другое дело, сколько им суждено быть вместе. В театре стоит быть вместе... Я иногда думаю, что жил бы Станиславский лет триста назад, также сегодня бы спорили, как о Шекспире: КС создал Художественный театр или не он. Может, это граф Сологуб все сделал? Почитаешь дневники и письма молодого Станиславского - это же совсем обыкновенный человек... Поехали в Петербург, мне купили сапожки... А через десять лет человек поразит весь мир знанием психологии людей. Провизор в аптеке Генрих Ибсен перевернет представление мира о драме. Как, в какой момент это происходит?..Б.З. Когда я начал в Париже с белого листа свое ремесло, то отсек всю свою прошлую жизнь. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мое путешествие на Запад окажется Одиссеей похлеще гомеровской. Думаю, что выдержал все искушения. Когда я приехал, то меня стали спрашивать журналисты: «Вы уехали по идеологическим соображениям, вы не могли там работать?» И я сразу отмел этот сюжет, решив, — не буду спекулировать на этом материале. Журналисты исчезли.А.Ш. Когда закрыли мой театр, там же в Риге заезжий американский сенатор предложил мне выступить перед комиссией Конгресса и рассказать об этом. Я отказался. Он был удивлен и сказал, самое худшее, что может произойти после вашего выступления — вам будут собраны деньги на театр. Но есть вещи, на которых нельзя спекулировать. У Брэдбери какой эпиграф к повести? «Если тебе дадут линованную бумагу — пиши поперек». Таковы вообще, по-моему, взаимоотношения искусства и жизни. И истинный театр только так и существует. Тут дальний путь оказывается самым коротким. Потому что когда ищешь короткий путь к зрителю, он иногда становится очень дальним.Б.З. Если вернуться к теме книги, то я вдруг вспомнил о феномене запрещенной литературы в Советском Союзе. Как люди перевозили книги через кордоны. Я помню, как у нас в гостях оказался Андрей Миронов, а моя жена Ирина работала редактором в «Русской мысли», и он обратился к ней с просьбой достать книги. Дал список, в реестре которого значились необходимые названия и против каждого стоял срок, полагающийся за прочтение. Мы ему собрали библиотеку на вывоз. Этот чемодан, заваленный криминальной литературой, он забрал и уверенно сказал: «Меня не будут шмонать». И провез.А.Ш. Наверное, есть закономерность, что думая о Брэдбери, озабоченным будущим, все время возвращаешься к прошлому... В один момент моей жизни сообщили, что близкий знакомый арестован за хранение запрещенной литературы и надо срочно уничтожить все, что есть у меня. У меня кроме книг хранились подшивки газет, в том числе и «Русской мысли». В течение короткого времени предстояло сжечь большую стопку газет в квартире, да так, чтобы дым не шел к соседям. Чувство стыда, унижения, которое я тогда испытал, не забыть... Когда-то мне дочка Михоэлса рассказывала, как они уничтожали письма Эйнштейна и Чаплина Михоэлсу. Я по детской наивности сказал: «Как вы могли?» А мне ответили: «А как иначе?» ...Но ведь был же Завадский, который так помогал и был другом семьи, неужели бы он не выручил? Она посмотрела на меня, как на юнца, и сказала: «А разве мы могли его так подставлять?»Б.З. Уезжая в эмиграцию, мы в основном брали с собой книги.А.Ш. Раньше у меня была очень большая библиотека — вся осталась в Риге. Надеюсь, кто-нибудь читает или будет читать.Борис ЗаборовХудожник. Учился в Минском художественном училище, в Ленинградской академии художеств, в Московском художественном училище им. Сурикова.В 1980 году уехал в Париж. Художник спектаклей «Маскарад», «Лукреция Борджиа», «Амфитрион» в «Комеди Франсез» (Париж).В июле этого года состоялось открытие первого в мире монумента, посвященного книге и письменности (г. Хайфа) по проекту 3aборова.Адольф ШапироРежиссер, окончил режиссерский факультет Харьковского театрального института. В1962-1992 годах возглавлял Рижский Молодежный театр. В 1990 году избран президентом Международной ассоциации театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ). В 1992-м, после принятия решения о реорганизации, а практически — об уничтожении молодежного театра, шапиро вынужден уехать из Латвии. В МХТ им. Чехова поставил «Кабалу святош» М.Булгакова, «Вишневый сад»; в Театре им. Вахтангова — «Милый лжец» Дж.Килти, «Кабанчик» В.Розова; в Театре под руководством О.Табакова — «Последние» и «На дне»; в Театре им. Маяковского — «В баре токийского отеля» Т.Уильямса,В БДТ им. Товстоногова — «Вишневый сад», «Лес».Работал в театрах Польши, США, Венесуэлы, Никарагуа и др. стран.