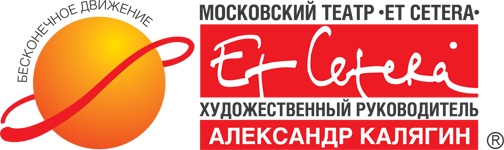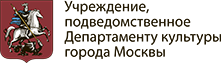Пресса
"Театр не больница. Он не лечит"
Елена Владимирова
Журнал "Огонек" ,
10.05.2016
Режиссер Роберт Стуруа в театра Et Cetera приступил к постановке "Ревизора". "Огонек" расспросил мастера о комических и трагических параллелях с нашим временем.
— Для рождения каждого спектакля существуют свои предпосылки. Почему сейчас вы выбрали именно "Ревизора"? До сих пор вы не увлекались русской классикой...
— Почему же... Я ставил "Бешеные деньги" Островского в Германии и "Трех сестер" и "Чайку" Чехова в Англии. Моим дипломным спектаклем в институте был как раз именно Гоголь — "Женитьба". А с "Ревизором" у меня связано несколько историй. Когда мне было лет 8-9, я попал на генеральный прогон "Ревизора" в Театре Марджанишвили. Это меня так потрясло, что я пришел домой в состоянии эйфории. Не давал спать сестре — изображал ей эту пьесу в лицах. Потом, когда учился уже в 8-м классе, племянник Нины Дорлиак, жены Рихтера, попал в Москве в дурную компанию, и, чтобы вырвать его оттуда, его отправили в Тбилиси. Мы оказались в одном классе. Наш учитель решил обратиться к модному в то время в сумасшедших домах и тюрьмах способах исправления — поставить спектакль и выбрал для этого именно "Ревизора". Я играл Городничего, а Хлестакова — тот самый хулиган. У нас были серьезные репетиции. Но когда мы дошли до третьего акта, стало понятно, что ничего у нас не получается. В итоге мы сыграли "Мистера-Твистера" Маршака. Но я до сих пор помню эту пьесу Гоголя наизусть.
На сей раз, когда мы обсуждали с Александром Калягиным, что я собираюсь ставить, он вдруг признался, что ему было бы интересно сыграть Хлестакова.
— Если следовать вашей логике, Городничий в вашем спектакле будет, наверное, не "постаревшим на службе", а молодым человеком?
— Молодым. У нас все герои молодые, кроме Ляпкина-Тяпкина. Мне представляется, что этот судья сидит на своем месте уже лет 15, видимо, имеет на всех досье, а потому все его побаиваются.
— Обычно свои спектакли вы ставите в содружестве с композитором Гией Канчели и художником Георгием Алекси-Месхишвили. Будут ли они участвовать в этой постановке?
— Музыку Гии Канчели я использую, а вот художником будет Александр Боровский. На сей раз сатирическое произведение о России ставит грузин, а мне не хотелось, чтобы это был взгляд со стороны. Мне кажется, когда чужестранцы говорят о проблемах России, то это безнравственно. Я знаю, что коррупция, взяточничество, подкуп существуют у нас, в бывшей империи, повсюду, и Грузия — не исключение. Видимо, это обычная человеческая страсть к лучшей жизни, причем добытая легким путем.
— Текст Гоголя звучит удивительно актуально. Герои пьесы убеждены, что ревизор к ним едет неспроста — "француз нам гадит" и "война с турками близится".
— У меня ощущение, что время стоит. Пьесе почти 200 лет, а кажется, она написана о сегодняшнем дне. Остались те же проблемы — человеческие, социальные, философские. Человечество как будто не меняется. Делаются открытия, появляются новые технологии, но люди остаются такими же. К сожалению или к радости.
— Не так давно в Грузии вы вели активную политическую борьбу. Вы по-прежнему считаете, что театр должен находиться в оппозиции к власти?
— Театр должен быть там, где правда и свобода.
— А зритель за последние годы изменился?
— Конечно. Сейчас зритель приходит в растерянном состоянии. Он не понимает, что происходит. Не знает, нужно ли быть честным, сохраняется ли человеколюбие и другие гуманистические ценности. Театр должен сказать: "Успокойтесь. Все так же. Ничего не меняется". Если бы у меня не было этого стимула, я, наверное, бросил бы это дело.
Я воспитывался в то время, когда театр старался, как мог, говорить людям правду. Люди приходили туда, чтобы хотя бы понять, что есть еще в мире какие-то существа, которые вселяют надежду на изменения к лучшему. Мне не хотелось, чтобы это стремление угасало.
— Театр может помочь людям выжить в нашем разделенном, раздираемом противоречиями обществе?
— Театр не аптека и не больница. К сожалению, он не лечит. Единственное, что он может,— напоминать, что зло всегда будет злом, а добро всегда останется добром. Хотя бы на те три часа, пока идет спектакль.
— Как вам работается в России?
— Я всегда чувствую себя в России замечательно. Работать с русскими актерами мне легко и приятно. Считаю, что у нас одна актерская школа. Мой педагог, Михаил Туманишвили, был учеником Георгия Товстоногова. А Товстоногов был одним из лучших знатоков системы Станиславского, ее продолжателем. Поэтому я себя считаю учеником русской театральной школы.
— Как вы относитесь к современным спектаклям, к "разрушению четвертой стены" — к попыткам размыть границы между зрителем, актерами и автором?
— Эти попытки предпринимались всегда. Они были и в античном театре, и в площадном, и в комедии дель арте. Наиболее серьезно и системно к этому вопросу подошел Бертольд Брехт. Его "эпический театр" подчеркнуто условен, а взаимодействие актера и зрителя стало обычным делом. Вообще, за свою жизнь я перевидал столько изменений в театре, что у меня выработалось спокойное отношение к переменам. Я успел застать конец эпохи романтического театра и конец эпохи сталинского соцреализма. Когда начинал работать, театр мне казался фальшивым. Мои первые спектакли были сделаны в пику театру на котурнах. Сегодня молодые режиссеры тоже протестуют против устаревших правил. Так что эти попытки естественны и нормальны.
Театр прошел все. Но он в первый раз столкнулся с современной технологией. Года полтора назад я был в Нью-Йорке и видел там очень много спектаклей. Я устал от присутствия в них постоянных проекций и телевизионных камер. На спектакле "Мизантроп", к примеру, телевизионщики ходили по сцене, и мы видели на экранах их крупные планы. Потом они выходили на улицу и начинали разговаривать с прохожими, а мы наблюдали за этим в зрительном зале. Не скажу, что меня привело это в бешенство, но было неприятно, потому что в идеале театр — доски и актеры. Конечно, молодежь стремится к чему-то новому. Я уже никак не могу отнести себя к молодежи, но в моем спектакле "Буря" в театре Et Cetera в фантастическом шекспировском мире тоже использовались проекции, но минимально и очень просто. Конечно, от этого не надо отказываться. Но нельзя забывать, что у театра есть магия — он все может перевести в человеческую область.
— Театроведы делят ваше творчество на различные периоды. Так, у вас был "брехтовский период". А как бы вы сами определили свой нынешний период?
— Я сам не могу делить свое творчество на разные периоды. Это делают театроведы. А я читаю их и иногда улыбаюсь, а иногда злюсь, когда меня ругают, потом забываю об этом, как забываю свои хорошие спектакли.
— А вы их забываете?
— Обязательно. Это режиссеру необходимо, иначе он не сможет двигаться вперед, если у него есть еще такая возможность.
А с Брехтом я не расстаюсь. С некоторой радостью обнаруживаю, что мир вновь интересуется этим драматургом и великим режиссером. Я считаю его режиссером больше, чем драматургом. Сейчас, когда приеду в Тбилиси, мы как раз должны выпустить пьесу Брехта "Исключение и правило".
Думаю, наступает мой последний период. Ведь человеческие возможности исчерпаемы. Стареешь. Хотя, как ни странно, у меня фантазии прибавилось. Но я уже 60 лет работаю в этом театре, из них около 40 лет я главный режиссер и худрук. Это не очень хорошо для театра. В нем происходит какое-то застывание. Пускай придут другие и изменят его. При мне в театре шесть раз менялись поколения. Нужно привести еще одно поколение. Наверное, последнее в моей жизни: не хочу, чтобы после меня оставались развалины.
Честно говоря, я не должен был возвращаться. Я изменил традиции — из нашего театра худруков всегда выгоняли, арестовывали или расстреливали. Когда меня выгнали, я должен был уйти. Но слаб человек, и я вернулся. Вернулся, чтобы сделать работу, задуманную давно,— поставить "Витязя в тигровой шкуре". Хочу рассказать о любви, о дружбе и о тех ценностях, о которых мы уже говорили. Потому что, что бы ни происходило в этом мире, добро остается добром, дружба — дружбой, а взаимоотношения между мужчиной и женщиной неизменны. Очень хочу найти адекватный сценический язык поэзии, перенести ее красоту в театральную форму.
— Вы же не сможете жить без театра.
— Я с удовольствием буду ставить спектакли. Один из крупнейших художников Ренессанса как-то написал, что, если мастер по ночам не испытывает сомнения в выборе своей профессии и даже ненависти к ней, он никогда не станет хорошим художником. Когда-то я неплохо рисовал, и мой отец, художник, даже хотел, чтобы я пошел по его стезе. У меня есть маленькая дача на берегу моря около Поти. Мечтаю поехать туда, читать книги, слушать музыку, рисовать, но я знаю, что через неделю буду рваться обратно в рабство театра.
— Вам важнее высказаться или быть услышанным?
— Наверное, высказаться, но, честно говоря, я об этом не задумывался. Я вспоминаю притчу о сороконожке, которую спросили, как она управляет своими ногами. Она задумалась и не смогла двинуться с места. Режиссер должен относиться к себе с иронией. Ведь то, что мы делаем,— это странная смесь шутовства и небес.
— Вы совсем не похожи на свирепого диктатора, а я слышала, что в Театре имени Руставели вас называли Адольфом Виссарионовичем Берией. Вы действительно сторонник жестких методов руководства?
— Это была шутка. Меня она даже порадовала. А сейчас у нас один артист пропускает репетиции. Мне говорят: "Поговори с ним". А я не могу.
Правда, в последнее время у меня нервы начали сдавать, и я в Тбилиси немного начал кричать. Раньше такого не было. А в Москве кричать вообще не могу. Я благодарен, что они меня в свое время приютили. Какая-то внутренняя деликатность мешает мне быть свободным, как я свободен у себя.
Но, конечно, я вовсе не Адольф Виссарионович. Я бы назвал себя "бархатным диктатором".
— Все-таки — диктатором?
—К сожалению, у меня такая профессия, что иначе нельзя. Я же должен подчинить своей воли большой коллектив. Иногда делаешь актеру замечание, доказываешь ему свою правоту, а он не соглашается. Тогда приходится говорить резко: "Делай, как я хочу". Наверное, это воспринимается как какой-то силовой способ.
А распределение ролей... Я же решаю судьбу людей. Помню, когда я поставил свой второй спектакль в Театре имени Руставели, пришел домой после премьеры немного навеселе. А мама мне говорит: "Осторожно! Отец на тебя очень зол. Он дожидается тебя на кухне". Подхожу к нему. А мой отец был поклонником нашего театра. Он мне говорит: "Я сейчас сидел в ресторане с актерами вашего театра. О тебе все плохо отзывались". Я ответил: "Я вывесил распределение. Те актеры, которые сидели с тобой, не получили ролей в моей постановке. Тебе повезло, ты рисуешь красивых женщин и делаешь их еще красивее, чем они есть. И мужчин ты делаешь красивее, чем они есть на самом деле. И все тебя обожают. А у меня профессия ужасная — как только я вывешиваю распределение ролей, большая часть труппы начинает меня ненавидеть. Что мне делать — уйти из театра?" Тогда он успокоился, поцеловал меня и пошел спать. Распределение ролей мучает меня больше всего. Сейчас уже, конечно, меньше. Юношеская сентиментальность исчезает с годами. Но иногда я думаю, что некоторые наши спектакли и не стоят того, чтобы обижать человека. Если хотя бы эту жертву ты приносил на алтарь шедевра — но такое случается редко.
— А как вы относитесь к тому, что Сталин в России вновь становится популярной фигурой?.. У нас некоторые считают его "эффективным менеджером"...
— То, что грузины гордились Сталиным, объяснимо — у нас мало таких крупных фигур. Но у нас дома из-за него были страшные скандалы. Дело в том, что я вырос в семье партийных работников. Только мой отец был художником, но убежденным сталинистом. Мой дед дал Сталину рекомендацию в партию, за что позже поплатился жизнью. Второго моего деда расстреляли. Я же всегда был убежденным антисталинистом. Начиная лет с 13-14. Что же касается нынешней ситуации в России, думаю, это последний выброс.
— Оглядываясь назад, вы можете сказать, что в вашей жизни были какие-то постановки, за которые вам не надо было браться?
— Те спектакли, которые я не хотел ставить, я не ставил. В 27 лет по заказу поставил "Сейлемские ведьмы". Это был хороший спектакль. Его даже называли шедевром. Позорных, провальных спектаклей у меня нет. Единственная неудача произошла в Москве с "Ромео и Джульеттой". Был задуман антрепризный спектакль. Приглашены потрясающие артисты — сплошные звезды. Но они все время уезжали на съемки, и я никак не мог их собрать вместе. Я их очень полюбил, но спектакль не получился. Что ж, режиссер имеет право на провал.
— Что вас в сегодняшнем дне больше всего не устраивает?
— То, что меня не устраивает, я выкидываю из своей памяти. У меня в Грузии выходит книга "Два года свободы" — о том времени, когда меня уволили из Театра имени Руставели. Сейчас все, что произошло тогда, я воспринимаю с юмором. Не хочу об этом думать. Я не смотрю телевизор. Слушаю музыку — очень люблю джаз. До сих пор сам играю.
Беседовала Елена Владимирова